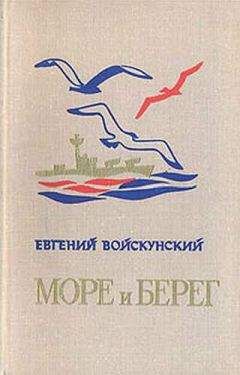Марк Ланской - Трудный поиск. Глухое дело
По его глазам и морщинам, успевшим окраситься в цвет настойки, можно было догадаться, что он перешагнул через стограммовый эквивалент.
— Много читаете? — спросил Даев.
— Что вы имеете в виду?
— Не протоколы, разумеется. Я про книги спрашиваю.
— Если откровенно говорить, совсем времени для книг не остается. По специальности, конечно, слежу, а так... Газеты просмотреть и то не всегда успеваешь. Принесешь домой пачку, так и лежат.
— По специальности, — повторил Даев, ловко открывая сухой, жилистой рукой плоскую бутылочку. — Это вы очень точно отбрехались. Так и я всю жизнь — по специальности. Только и успевал указы читать.
— Такое наше дело, — примирительно сказал Колесников.
Даев долго смотрел на гостя, маленькими глотками отпивая из стакана. Глубокие морщины на его лице редко меняли выражение, и понять, что переживает их хозяин, было трудно.
— В нашем-то деле невежество особенно опасно.
— Почему же невежество? — обиделся Колесников. — И всю эту премудрость (он кивнул на книги) от корки до корки проштудировал. Зря диплом с отличием не дают. Это когда-то можно было с одним пролетарским происхождением и классовым чутьем продвигаться по службе.
— Зря вы так про классовое чутье. В нем своя мудрость. Но в общем, про меня вы правильно угадали. Образование было липовое. Диплом не по знанию, а по званию получил. Попробуй — срежь председателя трибунала. Кратким курсом шел. Вы пейте, не стесняйтесь, водичка полезная.
Колесникова тронула откровенность Даева. Он был доволен, что с первого взгляда раскусил этого «бывшего». Черноплодная рябина пилась легко и помогала говорить, что думаешь.
— Простите за вопрос, но мне интересно: к чему вам это сейчас? — спросил Колесников, опять кивая на книги. — Или диссертацию задумали?
— Как это у вас гладко получается! Если в молодости Маркса штудировали, то для диплома. Если в старости человек за книги взялся, то ради степени. Вы небось ни разу просто так, для себя, ни того же Маркса, ни Ленина не открывали. Признайтесь.
— Открывал, когда нужно, а что значит «просто так» — мне непонятно.
— Вы слыхали, как когда-то старики говорили: пора и о душе подумать? Так и я. Всю жизнь времени не хватало, все — по специальности.
Колесникову стало весело. Этот захмелевший старичок говорил забавные вещи.
— Так и работали, не думая?
— Так и работал.
Колесников рассмеялся.
— Наговариваете на себя, Петр Савельевич.
— А вы ведь тоже сейчас, не думая, работаете.
— Как так? — изумился Колесников. — Вы о моей работе никакого представления не имеете.
— Вижу. В деревне, как в стеклянной колбе, все видно.
— И что же, по-вашему, неправильного в моей работе?
— Все правильно, только мысли нет.
Вот уже несколько дней Колесников напряженно думал только о происшествии в Алферовке, думал сосредоточенно, до изнеможения, и вдруг этот осколок прошлого стал учить его мыслить. Обижаться было глупо. Самое время уйти. На прощанье захотелось уязвить.
— Могли бы и подсказать. Вы здесь живете, все знаете. А по существу покрываете преступника. Неужели, когда юрист уходит в отставку, он вместе с мундиром снимает с себя чувство долга?
Колесников поднялся.
— Сидите. Как говорит в таких случаях Елизавета Глебовна: «Обиду проглоти, смешком заешь, и нет ее». Я вам еще кое-что скажу.
Ничего интересного Колесников услышать не ожидал, но отказаться счел неудобным. Он сел со скучающим видом.
— Думать можно по-разному, — продолжал Даев, — и курица думает: клюнуть — не клюнуть? Чтобы разобраться в том деле, которым вы заняты, прежде всего нужно Чубасова разработать.
— Что его разрабатывать?
— Вскрыть нужно, как патологоанатомы вскрывают.
— Картина и без того ясная.
— Ой ли?
Чтобы Даев потом не думал, что это по его совету он стал выяснять все связи Чубасова, Колесников сказал, что такая работа у него в плане записана, но больших надежд он на нее не возлагает.
— Смотря на что надеетесь, — сказал Даев. — Я о Чубасове почему вспомнил. Хочу помочь, как коллеге. Ведь это я его судил в сорок пятом. И судил плохо.
У Колесникова не было ни даевских морщин, ни даевского спокойствия. На его лице так явственно отразились изумление и радость, что Даев впервые усмехнулся.
— Что же вы молчали? — с укором спросил Колесников.
— Не хотел напрашиваться. Да и хвастаться нечем. Вы с приговором знакомы?
— Еще бы! Но мне не все ясно.
— Да и мне лишь недавно все ясно стало... Ко мне он попал случайно. Под суд шла группа мерзавцев из Кузьминского района. Те топили друг друга, и обвинение получилось полновесным. А Чубасова притянули в последнюю минуту, поскольку был он одиночкой и других предателей в Лиховском районе не оказалось. Следствие вели наспех, полных данных не собрали, решили, что и того, что есть, достаточно.
— И на высшую меру не потянул, — подсказал Колесников.
— Если бы я его одного судил, послал бы на виселицу с легкой душой. Все они ее заслужили.
— Как же так получилось?
Даев отхлебнул настойки, посмаковал, поморщился, как от горького.
— На фоне других он выглядел калибром помельче. К тому же подтвердилось, что он застрелил какого-то фрица из команды поджигателей... Достаточно для смягчения?
— Да, основания были.
— Не было! — оборвал Даев. — Грубейшую ошибку допустил. Не столько юридическую, сколько политическую. Имелись показания одной свидетельницы, невнятные, но были, что Чубасов лично пытал Грибанова. Как нужно было поступить? Задуматься. Выделить его дело для доследования. А задумываться я не привык. Приговор у меня сложился, когда я еще с обвинительным заключением знакомился. Уже тогда я этого изверга помиловал. Из соображений, если хотите знать, юридической эстетики. Дать всем одну меру — некрасиво, вроде бы судья рубил сплеча, не взвесив тяжести вины каждого отдельно. А запишешь одному высшую, другому — лагерь, совсем иначе выглядит — как будто до тонкости разобрался и объективность проявил.
Колесников слушал с нарастающим интересом. Он перестал выскакивать с репликами и ждал.
— Когда подписывал приговор, — продолжал Даев, — успокаивал себя: десять лет тоже не курорт, вряд ли доживет. А на деле как получилось? Пока его в суд водили, пока он видел кругом ненавидящие лица, пока ждал приговора, не раз, наверно, от страха помирал. А потом все сразу изменилось. В лагере он кто? Один из тысяч, не хуже других. Я потом узнал, что он ни разу ни в шахте не был, ни на лесоповале.
— Повезло.
— Везенье ни при чем. Приспособился. Всю жизнь приспосабливался — к Советской власти, к немцам, к лагерному начальству. Пристроился придурком в пищеблок и прожил безбедно. А после там же, на Севере, присмотрел вдовицу с хозяйством, стал агентом по кожсырью и зажил «полезным членом общества» — хапал где мог... Вы его письмо к Зубаркину читали?
— Видел.
По письму, которое Тимоха Зубаркин представил следствию, можно было понять, что Чубасов сильно колебался: ехать, не ехать. Письмо было полно бахвальства. Так бахвалится человек, чтобы убедить не столько других, сколько самого себя, что ему не страшно. Он писал, что заслужил у власти полное прощение, что перед ним любой город открыт, что денег зарабатывает много, что бояться ему нечего и куда захочет, туда и поедет. А в Алферовку он хочет заглянуть по пути, полюбоваться на родные края.
— Не могу понять, почему он сюда приехал? — признался Колесников.
— На давность понадеялся. Как-никак без малого двадцать лет прошло. Думал — перегорело у людей, стерлось в памяти. А проще говоря, рассчитывал и к нынешним временам приспособиться. Да просчитался.
Даев не скрывал, что доволен «просчетом» Чубасова.
— Если человек хотел приспособиться к честной жизни, ничего в этом худого не вижу, — заметил Колесников.
— Никогда он о честности не думал. К любой жизни приспособиться хотел — к подлой, грязной, преступной. Кем угодно стать — провокатором, палачом — лишь бы выжить. Таким, как Чубасов, все равно, какой строй, какая власть. Только бы ему жрать и пить. Случись завтра война, такой и к новым врагам приспособится.
— Я говорю о конкретном периоде его жизни, о последних годах. За то, что он совершил при определенных обстоятельствах, он был наказан вашим же приговором. А если наказание было недостаточным, это не его вина и не мотив для расправы. Мало ли как приспосабливались разные люди в разное время, — а живут же сейчас?
Колесников говорил назидательно, любуясь, как это с ним бывало, четкостью выражаемой мысли и округлостью построенной фразы. Это любование мешало ему оценить второй, жестокий или бестактный смысл, скрытый в его словах.
Даев сидел с закрытыми глазами, откинувшись на высокую спинку драного кресла. Он долго молчал, словно ожидал продолжения. Колесников опять взялся за книгу, собираясь уходить.
— Вы напоминаете мне, что я тоже приспосабливался в те годы, которые вы имеете в виду, — сказал вдруг Даев, приоткрыв глаза.