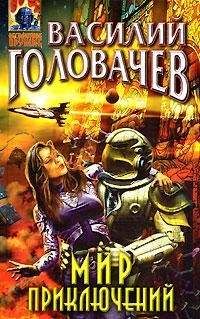Юрий Федоров - За волной - край света
— Не шибко грамоте учили меня, — сказал Баранов, — но все одно вижу: капитан испанский на землю, на которой сидим, смотрел, что на лакомый кусок, и проглотил бы его разом, не укрепись мы здесь, не вгрызись фортами самой этой крепостцы. Неужто ты этого не уразумел?
Глаза у Баранова побелели.
Вот ведь как оно получалось. На краю русской земли сидели два мужика, и им бы, по их нелегкому положению, о животе своем беспокойство проявить, помыслить, как живу остаться, не сгинуть безвестно в дальних краях, но нет — они о государственных делах разговор вели. Да еще какой разговор: Баранов–то в стол кулаком саданул, глазами побелел. Знать, державный интерес за живое его когтил. Откуда бы, казалось, такое? Что им держава? Да и видит ли она их? Эко, взгляни, расстояние какое через океан, и все волны, волны, облака… Углядеть никакой возможности. А он кулаком по столу…
Издревле ломали, гнули Россию черные нашествия. Горела земля, гибли люди, рушились города. И русский человек в пламени набегов в кровь впитал и с кровью сыну, внуку передал: жить будешь, доколе стоит твоя земля. Мужик говорит: «Как мир, так и я». И его же слова: «На миру и смерть красна». Он на миру спляшет, в последнем отчаянии ворот на себе разорвет, покрасуется на миру и голову за него сложит. А мир — Россия. Вот оттого–то и кулаком по столу…
Баранов, повстречавшись с испанским капитаном, разглядел наперед, как жизнь на новых землях будет складываться и чего сулят им встречи с такими вот капитанами. Видел он, видел прищуренный глаз капитанский, жестко сжатые губы, пальцы, играющие на эфесе шпаги, и мысли его достиг.
— Он нас, Кильсей, живьем съест, — сказал управитель, — выкажи мы хотя бы и в малом слабину.
— Да–а–а, — протянул Кильсей, подумав, — похоже.
— Не похоже, а точно, — отрезал Баранов, — оттого я и жму изо всех сил. К осени непременно надо, чтобы крепостца стояла и городок был. Хоть в лепешку разбейся.
На том разговор они закончили, и Кильсей с того вечера погнал на строительстве, как и управитель, а может, и круче. В ум вошло мужику, что слабина в их деле горем может оборотиться.
Наутро начали копать тайный ход к заливу. Мужиков для такого дела выбрали надежных, но и при этом Баранов не вылазил из темного, сырого подземного хода. Работу вели при факелах, задыхаясь от дыма; чад разъедал глаза.
На третий день, спустившись в тайных ход, Александр Андреевич услышал разговор ватажников. Они не видели управителя за кривым, как колено водосточной трубы, поворотом.
— Ну, попали мы черту в зубы, — сказал первый голос.
Баранов не стал бы ждать продолжения разговора, не в его это было правилах, но у поворота, при свете факела, увидел — стойка крепления треснула, и управитель остановился, прикидывая, как ее поправить.
— Намаешься, — продолжил голос, — все одно что на барщине. А на кой хрен в этом ходе горбы ломать?
Мужик закашлялся трудно, надсадно. Чувствовалось — кашель раздирал грудь.
Баранов, подняв факел, хотел было вышагнуть из — за поворота, и тут второй голос — басистый, крутой — возразил закашлявшемуся мужику:
— Зря ты, Никифор. Тебя не силой сюда звали. Да и ход роем мы своего бережения для… Чего жаловаться? А то, что трудно? Так оно, почитай, нет работы без труда. Шаньги сладкие с приятностью только жуют.
Баранов по голосу узнал говорившего. Был это густобровый, с жесткой, что проволока, черной бородой иркутянин. «Хорошо говорит, — подумал управитель, — лучше не скажешь».
Поднял факел, вышагнул из–за поворота и, будто не слыша разговора, озабоченно сказал:
— Крепь за углом треснула, — кивнул чернобородому, — добеги до Кильсея, леса хорошего сюда мигом.
— Выдюжит крепь, — возразил тот, но Баранов настоял:
— Нет, нет, — повторил, — тут лес надо надежный. Сбегай. — Взял лопату. — Я поворочаю за тебя.
Мужик перелез через наваленные горой неподъемные камни, нырнул в темноту.
Баранов укрепил в стене факел, повернулся к расчищавшему проход мужику, спросил:
— Кашляешь? Давно это у тебя?
Тот не ответил.
— Ты вот что… Вечером ко мне зайди. Настой дам травный, отмякнет в груди.
Мужик поднял лицо и посмотрел на Баранова, но управитель уже долбил лопатой в стену. Из–под лопаты сыпалась земля, и пыль заволакивала ход, пригашая свет факела. Пламя начало мигать, гаснуть. Баранов откачнулся от стены, опустил лопату.
— Нет, — сказал, — так негоже. С такой работой к берегу не пробиться. Задохнешься.
В глубине прохода, в темноте, послышались голоса. Баранов поставил лопату к стене, взялся за факел, высветил свод. Увидел: над головой клубилась пыль. Факел чуть не погас.
Из темноты выступил Кильсей. Спросил:
— Чего тут? Андреевич, дерево даем самое лучшее.
Баранов высвечивал свод. Лицо его в неверном свете выглядело сосредоточенным.
— Андреевич, — в другой раз позвал Кильсей.
— Постой, — ответил Баранов и, только опустив факел, сказал: — Плохо дело, так не пойдет. — Показал на груду камней: — Садись.
Присели, ожидая, что скажет управитель. Пыль спускалась со свода, хрустела на зубах, ложилась на лица.
— Надо колодцы пробивать, — сказал Баранов, — они дадут воздух. Дым, пыль вытягивать будут.
Чернобородый иркутянин задрал голову, посмотрел на свод.
— Это дело, — сказал, — как мы раньше не доглядели. Сподручней будет.
— Рухнет свод, — возразил Кильсей.
— Не рухнет, — неожиданно возразил мужик со слабой грудью, — в Знаменском монастыре, в Иркутске, так же вот ход тайный рыли, и через каждые двадцать сажень продушины пробивали. Ничего, держало.
Баранов поднялся на ноги.
— Решено, — сказал, — закончив ход, отдушины завалим. — Повернулся к мужику, сказавшему о Знаменском монастыре, похвалил: — Молодца, соображаешь. А то — барщина, барщина…
Мужик понял, что управитель слышал его разговор, но промолчал.
— А вечером зайди, — сказал ему Баранов, — непременно зайди. Дам траву, полегчает, — И оборотился к Кильсею: — Поставь пяток мужиков колодцы бить. Время не ждет.
Управитель вылез из тайного хода, обдернул разорванную о камни полу камзола, остановился, расставив ноги. Перед глазами, после подземельной темени, клубилась чернота, но отвалило ослепление, и взору открылся залив, во всей широте выказались строящиеся крепостца и город. Теперь вовсе отчетливо проступили будущие улицы, площадь, бастионы и форты. Увиделись причалы, и легко домыслить было стоящие у пристани галиоты, белые паруса шныряющих по заливу лодей. И Баранов увидел и паруса, и лодьи… Незаметно, исподволь, но он, купец каргопольский, поднял житье россиян на новых землях ступенью выше. Трехсвятительская крепостца, что ни говори, а игрушкой была в сравнении с разворачивающимся на берегу Чиннакского залива городком. Но даже не в размерах была суть. Здесь, в Чиннакском заливе, явственно обозначилось: за крепостцой и городком не купец, как за зимовьем, стоит, но держава. Баранов теперь был уверен: городок и крепостцу, которую вскоре назовут Павловской, к осени они построят.
…Никогда не было так ясно небо над Северо — Восточной компанией, никогда не поддувал так ветер в ее паруса, и — главное — не было у нее таких матросов, что ныне стояли на вантах и могли даже под шквалом вести судно по курсу. Однако в глубоком трюме скользящего по волнам галиота компании объявилась пробоина, о которой не знал пока Баранов, да и Шелихов.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Ясский мир был подписан. Турция признала присоединение Крыма к России и новую русско–турецкую границу по Днестру и Кубани. В Питербурхе победу отпраздновали с подлинным триумфом, и императрица, утомленная поздравлениями, отправилась в загородную резиденцию Саари–сойс.
Секретарь императрицы Безбородко в дружеской беседе с Александром Романовичем Воронцовым сказал:
— Положение на юге ныне не беспокоит государыню. Да оно и очевидно — основные вопросы здесь решены.
Личный секретарь императрицы был настроен благодушно.
— Я полагаю, — сказал он, — что некоторое время спустя государыня займется внутренними делами империи, и мы сделаем следующий шаг в развитии восточных начинаний в желаемом направлении. В нужное время я дам знак.
Однако шли дни, но Безбородко вести не подавал.
К изумлению переселившегося в Саари–сойс двора, императрица после нескольких дней, отданных развлечениям и отдыху, обратилась к предмету неожиданному.
Во время очередного доклада секретаря Екатерина задала вопрос, который сильно удивил и Безбородко, давно привыкшего ничему не удивляться.
— Сколько стоит говядина в Питербурхе? — спросила императрица.
Безбородко неопределенно сложил губы. Он знал, сколько стоит говядина, но хотел предугадать следующий вопрос повелительницы, ему была хорошо известна ее слабость к парадоксам. Екатерина, желая слыть человеком, мыслящим оригинально, время от времени озадачивала свое окружение вопросами, которые ставили в тупик даже и людей, привыкших к придворным неожиданностям.