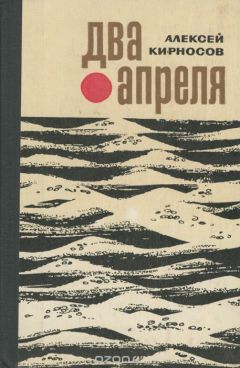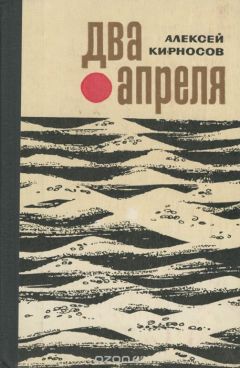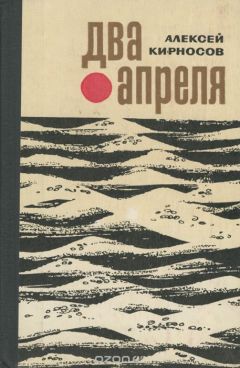Алексей Кирносов - Перед вахтой
А Ральф Сарагосский, получив рукопись, принялся сокращать и выискивать прострельные хохмы.
— И вот что характерно, — говорил Ральф, — у массового зрителя крепко бронированная душа. Тонкой шуткой на английский манер ее не поразишь. Если уж вы так настаиваете, оставляйте и тонкие шутки, но уверяю вас, что их оценят лишь редкие знатоки.
Билли Руцкий изловил Антона после занятий и потребовал:
— Дай честное слово, что ты в Инку не влюбился!
— Ох, босяк… — вздохнул Антон в изнеможении. — Ну честное слово. Честное-пречестное. Распронаичестнейшее в пятой степени, умноженное на суперсверхчестнейшую клятву.
— Тогда держи. — Билли протянул ему помятый в кармане конверт. — Дашь прочитать?
Антон разорвал конверт, быстро пробежал глазами небольшое письмецо. Ничего такого, чего нельзя было бы знать Билли, в нем не было, и даже сочившееся из строчек благоговение перед Алексеем не было для Билли ошарашивающей новостью.
— Ничего потрясающего, — сказал Антон. — Читай, если не стыдно.
Ему не было стыдно. Он выхватил листок из руки Антона, впился в него глазами, и страдание было выписано на его позеленевшем лице крупными буквами.
— А это что? — выговорил Билли с хрипом. — Это что значит: «…и не раз бродила по краю пропасти, из которой уже не выберешься, и нечем мне утешиться в моей биографии. И только две вещи поддерживают сейчас мой ослабевающий дух: тетрадка с цитатами из великих людей, которую я вела в седьмом классе (ох, какая я тогда была хорошая, идейная, умная и нравственная!), да эта наша с тобой ночь в Риге у Вальки. А после нашей ночи утро было радостным, ты особенный, друг мой, ты духовный брат моего Алеши, и клянусь, что я исполню твой завет…»
— И ежику понятно, — пожал плечами Антон. — Ничего не было, одни разговоры.
— От чего же ей наутро было радостно? — проклокотал Билли. — От разговоров?
— От разговоров! — уверил Антон и вдруг стал понимать, что звучит это не совсем правдоподобно. — В общем, ты мне надоел, Билли, — тихо рассердился он. — Ступай, пожалуйста, к черту.
Мимо них прошел Дамир Сбоков, посеревший, помятый, в погонах рядового. Взгляд его, прежде блиставший лишь перед строем, сейчас и вовсе угас, и только походка у него сохранилась командирская, уверенная, хозяйская, исключающая всякую распущенность.
— Его даже в отпуск не пустили, — сообщил Билли.
— Жаль человека, — сказал Антон искренне.
— Я бы на твоем месте не жалел.
— Мне жалко всех, кто втридорога платит за свои удовольствия.
— И все-таки его жалеть я бы на твоем месте подождал.
— С чего бы это? — насторожился Антон.
— Говорят, он получал удовольствия, за которые вовсе не платил.
— Например?
— Зачем переносить сплетни. Может, это и неправда.
— Ты говоришь таким тоном, будто эти сплетни касаются меня.
— Ну, не совсем тебя, — помялся Билли. — Всего лишь твоих знакомых.
— Давай выкладывай, — приказал Антон.
— Я не хочу переносить сплетни, — повторил Билли, но по лицу было видно, что сплетня эта вот — вот спадет с кончика его языка.
Антон сжал его плечи так, что Билли захрипел.
— Отпусти, бык сумасшедший! — взмолился он. Антон отпустил.
— Говори, что знаешь!
— Ничего я не знаю. Слышал нечаянно в курилке пятого курса, что Дамир проводил время со старой знакомой, пока ты был в Латвии.
Шатнулся паркет под Антоном, он сунул руки в карманы и пошел прямо, мимо отскочившего Билли, и шел так, пока не уперся в доску с красным пожарным инвентарем. Он повернулся на сто восемьдесят градусов и опять пошел прямо, и наткнулся на Билли, который на этот раз не отскочил.
— И как он проводил время? — задал Антон идиотский вопрос.
— Видишь ли, за ними никому не удалось подглядеть, — ответил Билли. — У этой его старой знакомой отдельная квартира.
Неведомо, как Антон очутился в каморке под парадным трапом, где уборщица важных канцелярий Аня хранила свои ведра, швабры и тряпки. Опомнившись, он удивился своему неудобному сидячему положению на перевернутом ведре, но некоторое еще время не менял позы, рассуждая. По мере того как он сопрягал в уме все, что известно ему о Нине, о Дамире и о себе, крохотное душное помещение становилось ему все более неприятным, и ручки швабр торчали все более враждебно, а развешанные на тонком штерте лохмотья тряпок намеренно оскорбляли его дырами и бахромой. Наконец, стало совсем омерзительно, и он выскочил из каморки, подумав, какой будет стыд, если кто его тут заметит. Но никого не было поблизости, а капитан Барышев вышел из своего распорядительно-строевого отдела, когда Антон уже занес ногу на трап. Все темное, звериное улеглось в душе, вернулось под замок в отведенный ему подвал, и Антон с благодарностью помянул Патанджали, вразумившего его насчет того, что в каждом событии жизни надо сперва отыскивать добрый человеческий смысл и следует быть заранее уверенным в чистоте и благородстве людских намерений, а не наоборот. Попутно он поблагодарил Патанджали за то, что тот научил его дышать полным дыханием: ибо дышащий суетливо и с перебоями не в силах сосредоточить свое внимание на нежном ростке добра.
Даже если Нина и встречалась с Дамиром, разве могла она, любимая, талантливая, добрая, сделать что-нибудь плохое? Наверное, она просто жалела Дамира…
А почему она так странно держалась первые дни?..
Ах, да мало ли почему!
И Антон зашагал к химическому кабинету с просветленной душой и легким сердцем, так как не знал еще, что колесо его фортуны изменило направление вращения.
В воскресенье вечером Герасим Михайлович читал «Красную Шапочку», зябко ежился и бормотал:
— Таким я представляю себе бред сивой кобылы… Впрочем, эстрада… Вероятно, это то, что для нее нужно… И вообще следовало бы помнить, что когда тебе подают пиво, не ищи в нем бургундского…
— Простой, здоровый смех тебе чужд, — жарко заспорила Нина, — Ты по самые бакенбарды завяз в Генделе и Бахе, все остальное для тебя на окраине искусства. А я считаю, что Антон написал замечательные стихи!
Если бы Антон знал, что это последние добрые слова, которые он от нее слышит!.. Но он не знал этого и продолжал беспечно радоваться жизни, сидя в мягком кресле близ вазы с подснежниками, которые они насобирали днем на подсохшей опушке леса под Гатчиной.
И эти такие нежные и трогательные цветочки были первыми и последними цветочками, которые они собирали вместе, Антон не знал, что произойдет через три минуты, и поэтому думал что-то сугубо бездельное о том, как они в следующие воскресенье поедут на берег залива.
— Мне пора, друзья, — сказал Герасим Михайлович, поднялся и отряхнул с пиджака предполагаемые пылинки.
Нина проводила отца и вернулась в комнату с конвертом в руке.
— Письмо, — сказала она, разрывая конверт без любопытства.
— Любовное? — неосмотрительно и в конечном итоге глупо сострил Антон.
— От кого я могу получать любовные письма? — улыбнулась она и положила конверт на стол.
— В курилке пятого курса болтают, что Дамир помирился со старой знакомой, — вырвалось у Антона.
Он прикусил язык, но было уже поздно.
— Это верно, — сказала она. — Прости, что забыла осведомить и заставила тебя собирать слухи в курилке.
— Я не собирал слухи. — Антон боролся с неведомо откуда взявшимся раздражением. — Они нашли меня сами. И судя по тому, что упоминается отдельная квартира, источник слухов не вызывает сомнений.
— Дамир приходил сюда. Ну и что же? Но он не рассказывал об этом, и не старайся обидеть его еще больше.
— Ах, значит, это я его, бедного, обидел… — Антон смотрел на рукопись «Красной Шапочки», такие беззаботные стишки. — Безвинная жертва коварного Антона Охотина.
— Как бы там ни было, а в результате ему хуже, чем тебе, — выразила она обидное для Антона предпочтение.
— Почему же… Говорят, во время нашего отпуска ему было не так уж плохо.
— Кто-то говорит гадости, а ты их повторяешь, — отозвалась Нина. — Следовало бы тебя за это сейчас же выгнать.
— Не надо выгонять меня из-за того, что мне не нравятся твои встречи с Дамиром, — сказал он примирительно.
— В моих встречах с Дамиром не было ничего унизительного для тебя. И перестанем об этом, милый.
Она подошла и обняла его.
— Перестанем, — легко пошел он на желанный мир. — Только, знаешь, мне показалось, что ты была какая-то чужая те два дня, когда я приехал из Линты. Что ты думала о другом.
— Может быть…
Она отвела руки, выпрямилась, и глаза ее устремились, как тогда, сквозь стену.
— Может быть?!
— Мы же решили перестать об этом… — Она потянулась за письмом. — Анонимная бумажка… Порядочные люди анонимных писем не читают, — вслух подумала она, но читать стала.
Антон разглядывал незатейливые цветочки и думал о скрытом смысле ее странного «может быть», пытаясь отыскать удовлетворяющее его значение этих рискованных слов.