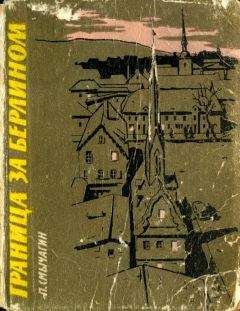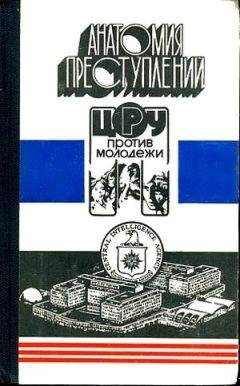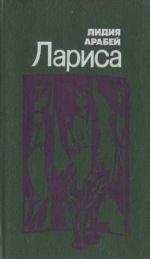Николай Никонов - Мой рабочий одиннадцатый
Зато на следующий танец — медленное танго — я пригласил Тоню Чуркину. И с ней мне было как-то удобнее и спокойнее. Танцует Тоня тяжеловато, нет, видимо, достаточной практики ни у нее, ни у меня, но хотя бы я не чувствовал осуждающих уколов во взглядах коллег, и то слава богу. Учительницы как будто сговорились за мной следить, отмечать всякий шаг, и, наверное, их обижало, что танцую я с ученицами, а не с ними. Вот Нина Ивановна английская что-то говорит на ухо Нине Ивановне немецкой. А та улыбается такой ехидно-понимающей улыбкой, качает головой. Неподалеку от них, у стены, Столяров, почти рядом с ним Нечесов. Если Нечесов лихо пляшет только шейк, то Столяров вообще не танцует, не умеет, видимо. Разные эти мальчишки, очень разные, спокойный хотя бы внешне Столяров и вертячий Нечесов, но сейчас в чем-то они очень сходны. Что-то такое есть общее.
Проследив за взглядами, понял: смотрят на танцующую Горохову. Оба... И оба, должно быть, несчастны сегодня, обижены, негодуют: изменила, танцует с другим... Оба — мальчишки, глупые, не искушенные в любви, хотя как знать, сколько они восприняли всякого «о любви», и, наверно, по-разному о ней говорят, по-разному судят.
В танцах перерыв. Ушли курить музыканты. Началась под руководством Нины Ивановны немецкой беспроигрышная лотерея: кому шоколадка, кому расческа, кому просто хорошо вымытая морковь. Хохот, крики. Библиотекарша организует какую-то амурную почту, и здесь охотников хоть отбавляй. Пишут номерки, бегают добровольные почтальоны, в их числе Задорина. Все разбежались по углам, осели у подоконников, притулились к стенам. Пишут. Разумеется, я не хочу, а вернее, не считаю возможным участвовать в игре для подростков, но отбиться от Задориной не смог. Номер мне был приколот ее собственной булавкой. А глаза-то, глаза! «Владимир Иваныч? Да что вы! Все играют. Нет-нет... Не уходите. Может, я вам написать хочу... Да, Владимир Иваныч. Ох, какой вы... А вы его не снимайте... Ладно?»
Номерок не снял. И тотчас начала поступать корреспонденция. Квадратики на манер порошков, треугольнички. Пожалуй, их было слишком много, и это обилие льстило моему самолюбию. Не человек я, что ли? А с другой стороны, здесь и подшутить могут, и зло подшутить. Школа школой, а девчонки ведь взрослые. Взять хоть моих продавщиц; вон собрались у дверей кружком, что-то пишут, хихикают. Записки я складывал в боковой карман. Прочитать, конечно, хотелось, но лучше, пожалуй, потом. Выдержу характер. Тем более я совсем не собираюсь никому отвечать. Напиши какой-нибудь Задориной, хоть два слова, а потом что? «А у меня-то от Владимира Иваныча!» Какой это фильм был? Ученицы разглядывают на уроке фотографию учителя, снятого на пляже, в плавках. А ты разве не ходишь летом на пляж? А ведь запросто могут щелкнуть. Хм... И все из-за одного: учитель. Учитель! Будто не человек я... Хм... Пойду курить. Заодно и прочитаю. В коридоре снял номерок, убрал в карман. Достал первую записку, развернул: «Я вас люблю!» О боги! Опять... Ну-ка, в другой что? Так... «Я люблю Вас, Владимир Иваныч!» И почерк другой. Другой почерк. Уж очень знакомый... Не Гороховой ли? А ты хотел бы, чтоб написала она? Лида Горохова. Иногда ведь и на свой внутренний вопрос ничего не отвечаешь... А почерк знакомый... Хм... Вот еще... Да это все шуточки. Дурость. А Горохова сегодня как будто очнулась. Танцует. Смеется... Что такое с ней произошло? Она ведь никогда не смеялась. Она умела только улыбаться или грустить. А сегодня Горохова смеется... Неужели это ее записка? Нет. Не может быть. Не хочу гадать. Не хочу. Выбросить? Выбрось...
Положил записку в карман. Вытащил третью. Что здесь? Так... И здесь то же самое. Тьфу!.. Понятно...
Словно бы в коридоре стало смеркаться. Или сильно накурено? Как противно горят лампочки! И сигарета — гадость. Сырая... Тлеет одной стороной. Когда горит одной стороной, значит, кто-то вспоминает... Как же! Вот тебе! Смял сигарету. Конечно, розыгрыш. А ты-то думал? Эх ты: «От Гороховой». А четвертая записка? Ну, так и есть... И в четвертой. А почерк мелкий, четкий, словно бы как у Чуркиной... Скомкал записки, выбросил. Снова закурил. Смотрю в окно.
Скоро Новый год. И сегодня уже почти как в новогодье. Синее, фиолетовое небо. Огни. Ветер за створками. И легкий снежок. И месяц какой-то странный, спинкой вниз, как кораблик. Точно такой был давно, в театре. «Ночь перед рождеством». До сих пор помню этот месяц.
Понемногу я успокаиваюсь. Ладно уж, бог с ними, с девчонками. Захотели позубоскалить. Не со зла ведь. И чего я расстроился? Пойду-ка в зал. Что-то весело там, чересчур даже.
А в зале откуда-то баян. Большой, тесный, дышащий круг. Высокий одиннадцатиклассник, партнер Лиды, пляшет русского. Старается... Вот уже кончил. Ему долго хлопают. Вызывают, но парень не идет. Потянули было в круг Чуркину. Не пошла, отбилась.
А возле баяниста откуда-то вдруг Нечесов, спрашивает быстро:
— Можешь?
Баянист заиграл «Цыганочку». И Нечесов... Нечесов с окаменевшим лицом, с остановившимся взглядом пошел с прихлопом, с присвистом. Откуда что взялось! Я смотрел и думал. Нет. До сих пор не знаю я даже Нечесова. Этот ведь уж, кажется, весь на виду... Плясал. Ему хлопали, кричали, баянист старался в поту. А Нечесов плясал и плясал, бледнея лицом, белея глазами. Что-то страшное, дикое было сегодня в нем. Я его едва узнавал.
Стояла в толпе, смеялась Горохова. Где угнетающее ее беспокойство? Видимо, все прошло: высокий одиннадцатиклассник что-то говорил ей. И она смеялась.
А когда пляска кончилась, ко мне вдруг быстро, раздвигая редеющую толпу, подошла Задорина:
— Владимир Иваныч, можно вас?.. Подойдите со мной... вот в коридор...
— А здесь нельзя?
— Нет... Пожалуйста.
«Что еще там такое? Ну ладно, пойду». Торчащие в стороны жесткие желтые хвостики ведут меня к лестнице. Забавные хвостики, каждый завязан черной аптечной резинкой. На проборе волосы темнее; наверное, она шатенка. Вот оборачивается. Смотрит. А я опускаю глаза. Не могу на нее смотреть в упор. Что-то мешает.
— Владимир Иваныч... Я хочу... Я давно хочу сказать вам... Только вы не удивляйтесь. Не сердитесь на меня. Я... вас люблю...
Опустила голову, быстро пошла прочь, почти побежала.
О педагоги! Великие педагоги! Ян Амос Коменский, Ушинский, Макаренко! Что мне делать? Скажите! Зачем это упавшее, как камень, признание? Зачем она мне это сказала?
Редко курю, а тут опять вспомнил. Сигарету бы... Свои кончились. Пошел к курилке. Попрошу у кого-нибудь. Но, подойдя к туалетной комнате, я услышал выкрики, возню, удары. Открыл дверь. В «предбаннике» отчаянно дрались двое: высокий одиннадцатиклассник и Нечесов.
— Прекратить! Что такое?! Нечесов! С ума сошли? И вы тоже... Сейчас же разойтись!
Разошлись, один зло посверливая глазом, другой зажимая разбитую губу.
— Нечесов! — окликнул его в коридоре.
Не обернулся, заскакал по лестнице вниз.
В раздевалке Нечесова не было. Убежал.
— Разодралися, знать-то. Вот ведь петухи. Обязательно имя драться надо. И все из-за девок. Из-за девок все, — спокойно сетовала Дарья Степановна, поглядывая на часы. — Скоро хоть кончится вечер-от? Ты гляди, Владимир Иваныч, гляди за своими-то. Шибко оне у тебя беспокойные. Этот вот, Нечесов-от, кабы чо не вытворил...
«Да неужели все из-за Гороховой? — думал я. — И Нечесов? Горохова? Смешно. Во-первых, старше она его года на три. Ей уже полных девятнадцать. Ну и что? Разве...»
— Владимир Иваныч! Вот вы где. А я вас везде ищу... Дамский танец. — Опять передо мной Задорина.
— Спасибо, Таня. Но ведь пока мы идем, он кончится!
— Ну и что? А я вас на следующий приглашу.
— Если вдруг там какой-нибудь шейк?
— А мы тихонечко.
«Мы»! Уже «мы», — подумал я. — До чего же смела эта Задорина. «Мы». Это мне совсем не нравится. Панибратством уже попахивает. Собственностью какой-то... Еще этого не хватало.
Шли-подымались по лестнице, покосился и увидел: глаза у Задориной в слезах. Губы не то шепчут, не то трясутся.
Решил: станцую еще раз и уйду. Хватит! Какой-то водопад сегодня. Молодой я, что ли? Ведь я все-таки не кто-нибудь. А от кого же все те записки? Все как насмешка!
Оделся, ощущая даже некую торопливость, словно за мной была и чуялась погоня. Вышел.
Хлопнула дверь, вздохнул облегченнее. Хорошо было... Свежо и тепло для зимы. Грустно пахло оттепелью, мягкой зимней ночью, спящими крышами и чуть-чуть заводской гарью. Но запах этой гари не раздражал, наоборот — как бы успокаивал, говорил: а жизнь идет, завод работает, люди не спят, и все хорошо.
Медленно вышел из школьной ограды, намереваясь так же спокойно идти к трамваю, и наткнулся на Нечесова. Он стоял с выломленной штакетиной.
— Что это? Ну-ка, пойдем домой...
— Нет.
— Дуэль?
— Пускай он не...
— Что «не»?
— Да так...
— Друг мой, — сказал я, беря у него штакетину, — ты ее тут выломал? Ну-ка, забей обратно. Вот и гвозди торчат. Забивай, забивай...