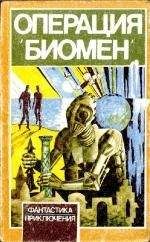Иван Свистунов - Жить и помнить
Было радостно, несмотря ни на что, вопреки всему: ждет!
Однажды Элеонора, покраснев, неожиданно спросила:
— Ты помнил там обо мне?
Что он мог ей ответить? Правду? Знал ли он сам правду? Обняв Элеонору, почувствовав под рукой тепло ее плеча, сказал неправду, в которую теперь верил с облегчением:
— Когда я думал о Польше, я видел твои глаза, мне чудился твой голос. — Помолчав, попросил: — Я так давно не слышал твоих песен. Спой что-нибудь!
Элеонора смутилась еще больше: оказывается, Ян не забыл, что она когда-то пела. Значит, правда, что он думал о ней, вспоминал ее.
— Право, не знаю. За годы фашизма мы забыли все песни. Забыли свои имена, простые польские слова. Все забыли.
— Так плохо было?
Элеонора подняла глаза на Яна:
— Посмотри на мои волосы, лицо, руки. Ты думаешь, годы сделали их такими? Дахау! И каждый день ожидания смерти. Потом американский лагерь…
Что он мог ей ответить! Верно, так и было, как говорит Элеонора. Как страшно думать, что его любовь жила за колючей проволокой, лежала на грязных вшивых нарах, ходила с номером на спине. Овчарки провожали ее злобным рычанием, на нее смотрела смерть черными зрачками автоматов.
— Как воскрешение из мертвых, было наше возвращение домой, — проговорила Элеонора. И неожиданно — лучом — блеснула улыбка: — Хочешь, я спою песню о русских. Ее любит Станислав. Любил и майор Курбатов.
Ян поморщился. Песня о русских! Сколько раз на дню слышит он в родном доме: «русские», «русским», «русских»! Уж не сговорились ли они все?
— Ты знаешь песню о русских?
— Знаю. Теперь много песен о русских. Хорошие песни! — в голосе Элеоноры послышалось то новое, непонятное, чему не было ни объяснений, ни оправданий.
Все минувшие годы Ян жил с убеждением, что русские — враги. Только американцы и англичане могут дать польскому народу свободу, демократические права, счастливую жизнь. А теперь!
— Я не могу не верить отцу, матери, тебе. Но как верить?
— Верь, Янек! Поживешь с нами и тоже станешь другом Советской страны.
— От таких разговоров голова кругом идет. Кто-то обманут. Страшно обманут. Или мы, десятки тысяч сражавшихся в Кассино, в Африке, в Нормандии, или вы все здесь. Я не могу решить…
Элеонора взяла Яна за руку — так, ей казалось, легче его убедить.
— Ты решишь, я знаю. Пойди с отцом на шахту, поговори с горняками. Приходи в нашу мастерскую. Послушай, что говорят рабочие, узнай, что думают простые люди. Вот приедет Станислав! Ты поймешь, на чьей стороне правда.
Ян невольно улыбнулся: как горячо говорит Элеонора. А раньше и слова она не могла сказать, не потупив глаза:
— Это ты, та худенькая гимназисточка, с которой я целовался в темном костеле!
— Молчи, гадкий! Неужели ты помнишь?
— Помню, все помню. Разве можно забыть свое счастье? Ну, что ты хотела спеть?
— Может быть, не надо?
— Пой. Я хочу все знать, что знаешь ты. Хочу понять, чем живут русские, заворожившие тебя, заворожившие всех вас.
Элеонора села за пианино. Пела тихо, не поднимая головы:
Одинокий ворон в небе кружит,
Все вокруг разрушено дотла.
Польша-мать над мертвым сыном тужит,
Висла алой кровью потекла…
В комнату заглянул Юзек. Остановился на пороге. Усмехнулся: как влюбленные голубки. Неужели действительно существует на земле любовь, которая может выдержать такую разлуку? Мистика какая-то! Семнадцатый век. Атавизм.
Элеонора пела, не замечая Юзека:
Нам казалось: не согреет больше
Счастье наши души и сердца.
Опустилась злая ночь над Польшей,
Черная, без края и конца.
Подняла на Янека бледное лицо:
Но горит восток святой зарею,
Светит людям ясный русский свет,
Как призыв к спасению и бою,
Как зарок: врагу пощады нет!
Юзек громко зааплодировал:
— Браво, браво, Элеонора! Жаль только, что майор Курбатов не может услышать и, как бывало, оценить твое искусство.
Элеонора вскочила, со стуком закрыла клавиатуру.
— Не знала, что ты подслушиваешь. Не стала бы петь.
Юзек усмехнулся:
— Я не люблю чужих песен.
— Не потому ли, что предпочитаешь плясать под чужую дудку! — Сказала со злостью. Откуда только взялась у нее такая злость?
Юзек насторожился:
— Как понимать?
Элеонора обернулась к Яну:
— Пойдем лучше в сад. Ты еще не видел, как разрослись яблони. Не узнаешь.
— Иди, я тебя догоню. — И подошел к брату: — Что между вами произошло?
— Ничего.
— Но я слышал…
— Не беспокойся. Ничего серьезного. Впрочем…
— Что впрочем?
Юзек притворил дверь:
— Надеюсь, я могу говорить с тобой откровенно. Как с братом?
— Конечно. Помнишь, до войны у нас не было секретов?
— Теперь все переменилось. Теперь никому нельзя верить.
— Что ты говоришь?
— Я хотел сказать, что не всем можно верить. Не всем…
— Что у вас произошло с Элеонорой?
— Видишь ли… как бы тебе сказать. Все здесь слишком увлекались русскими… Курбатовым…
— Все увлекались?
— Все, все.
Преднамеренная недоговоренность в пугливых, увертливых словах Юзека: словно мокрой рукой вытаскиваешь из корзины живого угря.
— Говори ясней. Не петляй.
— Ты хочешь знать правду?
— Да!
— Ну что ж, скажу. Только на меня не пеняй. Дело в том, что… — и снова замялся. Но, увидев угрюмый взгляд Яна, поспешил: — Дело в том, что Элеонора увлекалась Курбатовым больше других.
— Как понять?
— Тебе, я думаю, неприятно было бы узнать, что твоя невеста… — Юзек опять запнулся. Лицо Яна потемнело.
— Договаривай! — Теперь Ян не просил, приказывал: — Договаривай!
Юзек испугался. Кто знает, какие там у них за границей обычаи. Еще ударит по физиономии или, чего доброго, пырнет ножом в бок.
— Ничего плохого! Честное слово, ничего плохого!
Ян пристально смотрел в глаза брата. Странно. Только теперь заметил, что у Юзека зеленые глаза. Совсем зеленые. Как у ящерицы. Нельзя понять, что скрывается за их стеклянным блеском. Словно не брат, а совсем чужой человек смотрит на тебя чужими глазами. Такими чужими, что даже страшно.
Нет, если бы перед ним был чужой человек, то он знал бы, что делать! Перед ним брат, Юзек. Маленький Юзек. Мать всегда говорила: «Янек, не обижай Юзека, он маленький!»
Ян вышел из комнаты, хлопнув дверью.
Юзек стоял растерянный, подавленный. В животе заныла знакомая, в дрожь бросающая пустота. Правильный ли он сделал ход? С одной стороны, как будто правильный: заронил сомнение в душу Яна. А с другой? Черт его знает, что с другой.
— Проклятая жизнь!
3. Бреславек
Когда идешь по знакомой-презнакомой улице родного города, то и тогда порой не знаешь, что тебя поджидает за ближайшим поворотом.
А дорога жизни! Каждый день как открытие. Каждый шаг приносит новизну, узнавание, долгожданные радости, нежданные беды…
Сколько лет прошло после окончания войны, но Екатерина Михайловна Курбатова и не подозревала, что где-то в Польше растет мальчик, носящий фамилию ее покойного мужа, считающий Сергея своим отцом.
В первую минуту она испугалась. Рушился и меркнул давно устоявшийся, ясный и чистый образ мужа. Она твердо верила в его любовь, в его преданность и верность. Этой верой жила всю войну, решительно, с чувством омерзения отвергала все попытки мужчин ухаживать за нею. Только Сережа! Эта вера осталась у нее после смерти мужа. С нею она ехала в Польшу на его могилу.
Рассказ Петра Сидоровича Очерета все поставил на свое место. Сережа предстал перед нею в новом свете. Вспомнились слова мужа, сказанные в их последнюю ночь: «Как жаль, что у нас нет сына!»
Она теперь знала: несбывшаяся мечта Сережи о собственном сыне воплотилась в Бреславеке. На него перенес он свою отцовскую любовь. Горьким упреком был для нее Бреславек. Он напоминал ей ее собственную женскую вину: она не родила мужу сына.
Сергей называл Бреславека сыном. Это не могло быть шуткой. Сергей полюбил мальчика. Спас ему жизнь, стал для него вторым и настоящим отцом. Если бы Сергей остался в живых, он, конечно, выполнил бы свое обещание и усыновил Бреславека, увез бы его в Советский Союз. У них был бы тогда сын.
Чем больше думала обо всем этом Екатерина Михайловна, тем ясней, определенней, несомненней вставала перед ней ее задача, ее долг: сделать то, что не успел сделать Сережа — усыновить Бреславека.
Но то, что легко и просто мог сделать Сергей, было для нее задачей почти непосильной.
Славек уже не ребенок. Как отнесется он к неожиданному предложению покинуть семью, где вырос, где окружали его единственно близкие люди, и поехать в чужую страну, с чужой, незнакомой женщиной.


![Вера Кауи - Любить и помнить [Демоны прошлого]](/uploads/posts/books/9379/9379.jpg)