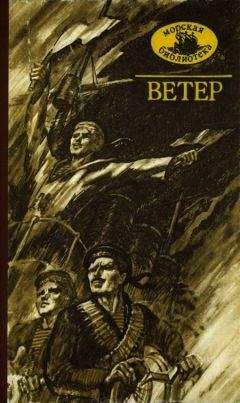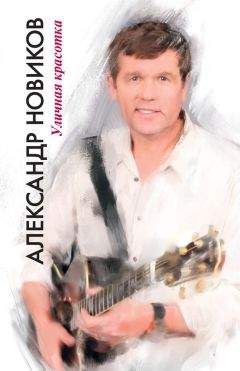Александр Серафимович - Том 2. Произведения 1902–1906
– Вы говорите трюизмы, Иван Николаевич…
– Нет, позвольте, господа…
В табачном дыму, пронизанном тусклым сиянием, нервно метался говор. Кто-то опрокинул стул. Уронил зазвеневшую осколками рюмку. Проталкивались, говорили не слушая, тянули друг друга за рукав, каждый желал получить слово…
– …Провозглашаем тосты, пьем, едим во славу объединения, товарищества, а эти товарищи горла друг другу готовы перегрызть. Разве секрет, что внутри редакции идет постоянная, ни на минуту не прекращающаяся борьба, борьба за власть, за вознаграждение, за значение и руководство в газете…
– Это слишком!..
– Верно…
– Правильно!.. Правильно!..
Снова взмывшие говор, крики, восклицания заглушили голос оратора.
– Позвольте… позвольте… – говорил фактический редактор, выдираясь из толпы, красный, взволнованный, вспотевший, то и дело поправляя пенсне на опухшем носу, – это уже личности, это прямой намек на меня, и я не могу этого оставить.
– …якобы служим высокому делу прояснения общественного сознания, а на самом деле мы просто служим дивиденду господ акционеров…
– Неправда!..
– Верно!..
– Так зачем же вы сами работаете в газете?
– Это – лицемерие!..
– Ага, голому можно быть, а нельзя про это говорить.
– Нет-с, позвольте-с… – нервно поправляя пенсне, выкрикивал срывающимся голосом редактор, и жилы на лбу его надулись, – мне бросают упрек… это не в первый раз… меня упрекают, что я служу капиталу… Господа, кто же вам велит служить, если это предосудительно… Детский, наивный лепет… Ну, организуйте газету без денег, и я с радостью первый пойду в нее работать. Разве я не понимаю, что приятнее, благороднее, чище, возвышеннее работать в органе, не зависимом от капитала… Организуйте же такой орган!.. Господа, ведь вы все стоите в стороне, вы только критикуете меня, а ведь все сношения, все столкновения, все удары Кит Китычей приходится выносить мне. За каждую лишнюю копейку гонорара мне приходится выслушивать длиннейшие нотации. Вам ничего этого не видно…
– Себя-то не забываете, на четыреста рублей в месяц жить можно!..
– Четыреста рублей!.. А вы думаете, много это – четыреста рублей, за те унижения, за те нравственные пытки, которыми покупается мало-мальски чистоплотный облик газеты. Вы говорите: четыреста рублей, но, господа, ведь я восемнадцать лет тянул лямку журналиста… у меня семья, у меня учатся ребятишки… Господа, неужели и под старость я не имею права на это? Что буржуазный орган… Ну, хорошо, я уйду на улицу с семьей умирать с голоду, кто выиграет от этого? Вы проиграете, потому что теперешнее обеспечение сотрудников создано многолетней борьбой, я уйду, акционеры воспользуются случаем и сведут всех на пониженную плату… Никто не упрекнет в подлости нашу газету…
– В прямой… – эхом отозвался чей-то голос.
– Да, мы о многом не пишем, не говорим…
– Фигура умолчания, – снова, как эхо, отозвался голос.
– …но мы не мракобесничаем, мы не лезем на стену защищать интересы капиталистов, и стоит мне уйти, сейчас же найдутся люди, которые, чтоб укрепить за собой положение, будут по-собачьи заглядывать акционерам в глаза, будут торговать и совестью и честью журналиста, и вам всем, господа, если вы уважаете себя, придется уйти.
Все молчали, не спуская глаз с отсвечивавшего потом влажного, потного, красного лица Короедова. И среди молчания, странно и неожиданно нарушая его, раздался одинокий хлопок, и через минуту нерешительного замешательства другой, третий, и весь зал задрожал от аплодисментов.
И снова зал, весь сизый до самого потолка, заполнился голосами, смехом, восклицаниями, говором.
– Все образуется… все пойдет, как надо…
– Я на это так смотрю: надо же жрать, ну, вот и работаю в буржуазной газете… все равно кирпичи бы таскал…
– Разница, знаете… кирпичи-то безразличны для общества, а буржуазный-то орган вносит отраву…
– Извините, и из кирпичей, может быть, как раз строят тюрьму, в которую засадят лучших сынов народа…
– А знаете, вредное насекомое этот Иван Николаевич… от злости он говорит, но всегда в его словах ядовитое зерно правды.
Разбились по кучкам. Голоса становились хриплыми, усталыми, осовелыми. Зал пустел. Хотелось на воздух из духоты и табачного дыма.
Ковылин, небезызвестный журналист, вышел, с наслаждением глотая свежий воздух и стараясь удерживаться и не покачиваться. Фонари, заливавшие улицу синевой, то необыкновенно далеко, безнадежно и с трудом брезжили сквозь туман, то назойливо и нагло лезли в самые глаза. Ковылин усиленно двигал бровями, стараясь ориентироваться. Кто-то взял его под руку.
– А-а, Игнат Матвеевич…
– Пойдемте вместе…
– Пойдемте.
Игнат Матвеевич, репортер, никогда бы не осмелился на такую фамильярность со знаменитостью, но, когда улица ковыляет и фонари кланяются, все становятся ровней.
– Вот, – говорил Игнат Матвеевич, худой, костистый, с добрым птичьим лицом и весь похожий на заработавшуюся клячу, которую плохо кормит хозяин, – всегда так, каждый год что-нибудь, а уж выйдет. Иван Николаевич – хороший человек, но… понимаете, когда с ним говоришь и он улыбается, так и ждешь – вот-вот сейчас скажет что-нибудь… и ведь он не врет или там ругается, нет, а всегда боишься…
Мимо без перерыва шли в обе стороны широкие панели, гремели пролетки по мостовой, потоками света заливали окна магазинов фонари, рассеивая ложившиеся вокруг тени.
– Ведь вот… ей-богу, – заговорил Игнат Матвеевич, с чуть тронувшей усы улыбкой усталого человека, но не той всегдашней улыбкой, с которой он ходил целый день, – как подумаешь: что ж… зарабатываю рублей полтораста, а то двести в месяц, казалось бы, – хорошо… у дела такого стоишь, не то что в какой-нибудь конторе, чего лучше, а что же – я, право, половину бы отдал за другую жизнь… Бегаешь с утра до глубокой ночи, живешь, в сущности, на извозчике да в канцеляриях… Ведь не поверите, а иной раз упал бы, закрыл глаза, да так и лежал бы без сил, без дум, без желания. Секретари, председатели разных управлений, канцелярий – с каждым надо уметь, каждому надо знать, что рассказать… Знаете… я с жадностью читаю и слушаю разные скоромные анекдоты, записываю в книжку, выдумываю сам. Я их рассказываю по канцеляриям. Ничем нельзя купить так легко русского человека, как потешив сальным анекдотом. Соберется кружок, слушают, ухмыляются, у всех рожи масленые, и вдруг заржут, а я рад, значит – дело в шляпе, все добуду, что надо… И надо уметь каждому улыбнуться, вовремя промолчать, поддакнуть, а ведь знаешь: перед тобой взяточник, мерзавец… Оно бы, знаете, ничего, но в конце концов тяжело… И то сказать, что же видишь? Стены редакции да на улице дома, да такие же стены в канцеляриях. С добрым человеком перемолвиться некогда, семьи не вижу, дети совершенно отвыкли, как к чужому… Знаете, иногда мечтаешь: вот бы поехал далеко-далеко, чтоб запаху этого городского не слышно было, этой гари от фабричных труб, этой вони дворов, и, главное, не слышно бы было этой трескотни по мостовой. Ах, как она одолевает меня! Иногда спишь, ночью проснешься, голова разворачивается от трескотни, вскочишь – ничего, на улице никого, тихо, это – у меня в голове… Да, думаешь, вот лег бы на траву, на зеленую, на яркую, лицом кверху и глядел бы, как облака бегут… час, два, три, неделю… право. Вы думаете, выпил, но… так вот с вами… свежий вы человек, а вот со своими, друг с другом мы и не говорим, приболтались… У меня ведь нет праздников, отдыху, перерыву круглый год. Читатель ведь не терпит перерывов… Я ничего не читаю, ни о чем не думаю – некогда…
Он выпустил локоть Ковылина, помолчал, закуривая папиросу.
– Семья, – проговорил он задумчиво.
И это прозвучало, как удар похоронного колокола.
– Во всякой работе есть изнанки, тяжесть, – сказал Ковылин, чувствуя, что надо что-нибудь сказать, и не зная что, – взять службу в банках, в конторах, в тех же канцеляриях. Видите, там тоже… разной степени неприятности, однообразие… вообще, знаете, какая служба…
– Знаю, знаю, – подхватил Игнат Матвеевич с той же измученной улыбкой, – мне жена постоянно это же говорит: где бы я мог зарабатывать полтораста, двести рублей. Все это так, только, знаете, как я в первый раз пришел в редакцию, сердце билось, ждал чего-то особенного, прилеплюсь, дескать, к огромному, большому, нужному делу, что наконец-то добился человеческой работы, положения, сознания важности ее…
Он снова помолчал, вынимая новую папиросу.
– Это – десять лет тому назад.
Кто-то толкнул: «пардон!..»
– Может быть, я вам надоел?
– Нет, пожалуйста, я с удовольствием…
– Знаете, всего этого не замечаешь; день уходит за днем, не успеешь оглянуться, на себя некогда посмотреть, а вот с вами это – редкий случай, хоть на минуту оглянешься, и, знаете, приятно это как-то… да… а то бежишь, как почтовая кляча… Да… что вам скажу: теперь мне тридцать шесть лет… хорошо, пока ноги бегают, кормлюсь, но ведь силы-то не прибавляются, а убавляются, и придет время, стану только шагом ходить или совсем остановлюсь, а у меня пятеро, да старики. Что ж, – на улицу? Ведь газета ломаного гроша не даст, а шагом здесь не велят. Стоит мне ослабеть, как двадцать человек на мое место. Конечно, инвалида кормить перестанут, а мое место двадцать человек караулят… Приспособляться к другой работе поздно… Застраховал, знаете, свою жизнь в десять тысяч рублей, триста рублей в год приходится платить… Конечно, тяжело отрывать триста рублей в год, но не в этом беда, а в том, что… Страховое общество дало мне копилку механическую, и теперь все, все в доме зависит от этой копилки. Всякий лишний двугривенный, гривенник, пятак – всё это тащат в копилку, и целый месяц только все и думают, чтоб к первому числу открыть ее и высыпать двадцать пять рублей. Я живу, знаете, не настоящим, я живу будущим, даже не будущим, а тем днем, когда я умру и семья получит десять тысяч рублей. У меня вся жизнь теперь, вся приурочена к этому дню, я о нем думаю, о нем забочусь, о нем говорю. Тогда семья будет обеспечена, все отдохнут, успокоятся…