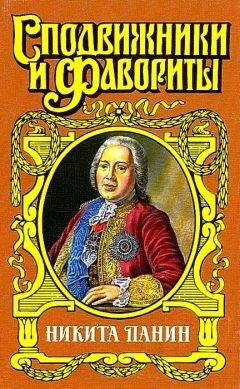Михаил Панин - Матюшенко обещал молчать
Так мы изощрялись, а Шурке было хоть бы что, он шмыгал носом и охотно поддакивал нам, сам понося дядьку, так опозорившего племянника перед всем светом. И конечно, ему было обидно за отца, потерявшего в плену здоровье, инвалида, которого так сурово и несправедливо судил дядька.
— Просидел всю войну в Средней Азии и еще героя из себя строит... А попал бы на фронт, еще неизвестно, кто первый поднял бы руки. Правда, дядя?
Козлов, к которому Шурка обращался за поддержкой, казалось, совсем не слушал, о чем мы говорили; закинув руки за голову, он лежал, полузакрыв глаза, и не то дремал, не то о чем-то думал. Но оказалось, он слышал все. Не поворачивая головы, он тотчас отозвался:
— А может, и не поднял, бы, кто знает... Чего не было, того не было. Вот в чем штука. Понимаете: не было!
И вдруг он рывком, словно и не дремал, поднялся на своей постели и сел.
— Черт возьми! Вот ты говоришь, Григорий, твой отец... Согласен — виноват, крепко виноват, кто спорит. А ты представь, парень, как не повезло твоему отцу. Ведь мог просидеть всю войну спокойно где-нибудь в Сибири, в той же Средней Азии... А твой батька воевал с первых дней, сам говоришь — орден заслужил, может, в таком пекле был, что другим, чистеньким, и не снилось. А может, твой отец потом опять с немцами воевал, до самой Германии дотопал и люди ему верили — как тогда?
И Козлов, разволновавшись, снова лег. Мы озадаченно молчали, мы запутались совсем, потому что была какая-то своя горькая правда в словах Козлова о Гришкином отце, как была своя, пусть жесткая, но правда в словах невоевавшего лейтенанта об отце Шурки — не надо было сдаваться.
— А кто ж его заставлял в полиции служить? — в наступившей тишине спросил у Козлова Гришка.
— Кто... — глухо отозвался тот. — Не пошел бы — расстреляли. Ладно хоть самого, а то ведь — и детей. Тебя вот...
— А хоть бы и расстреляли, — рассудил Гришка, — все равно это лучше, чем быть изменником.
— И тебя бы сейчас не было на свете...
— Все равно, — упрямо сказал Гришка. — Нам же теперь с матерью всю жизнь глаза колоть будут.
— Значит, говоришь, нет прощения твоему отцу?
— Я не прокурор.
— Ясно... А ты хоть помнишь своего отца?
— Зачем вам?
— Да так, интересно. Ну, какой он был: высокий, низкий, добрый, злой?
— А черт его знает! — пожал плечами Гришка. — Мне же сколько лет было? Пять. Помню, пришел он домой, переоделся в гражданское и по хате бегал. «Что делать? — говорит. — Наши рядом». А мать плакала и харчи ему собирала. Здоровый был, бугай...
— А больше ничего не помнишь?
— Больше ничего. Когда наши пришли, везде его шукали — в погребе, в сарае, все в хате перерыли. Дядько Павло Трембач матери сказал: найду — сам пристрелю, как собаку. Они с батьком до войны в одной футбольной команде играли.
— Играли... Он что, тут живет сейчас?
— Кто?
— Да этот... дядька.
— А где ж еще, банк охраняет. Ему руку перебило на фронте. Он потом матери помог на работу устроиться, ее не принимали никуда. При чем тут, говорит, она, если у нее муж — изменник.
— Вот как...
— А вам вроде его жалко?
Козлов кивнул:
— Все-таки человек был... Ну а мать не вспоминает никогда отца?
— Нет, не вспоминает. Хотя кто знает, все фотографии его спалила, а одну оставила. Он там в военном и с орденом...
Толик спросил:
— А у вас есть ордена?
Козлов сначала не расслышал, а потом машинально кивнул — есть.
— А почему вы их не носите? Все носят.
— Да так... Что вы заладили — ордена, ордена? Не в орденах дело.
Мы переглянулись: вот это да, не в орденах дело! А в чем же дело? Раз человек воевал, должны быть ордена, чем больше орденов, тем лучше он воевал, простая штука. Зачем тогда ордена существуют? Мы молчали и настороженно рассматривали такого необычного фронтовика. Тогда он вдруг вскочил и стал искать свой вещевой мешок, развязывать веревочки на нем, кивая головой, — есть, есть ордена! — словно боялся, что мы ему не поверим. Он вытряхнул содержимое мешка на солому и, порывшись в кучке белья и портянок, вытащил завернутые в тряпицу орден Отечественной Войны и три медали. И протянул нам.
— Вот мои ордена...
Мы сгрудились около него в кучу.
— Тоже не густо, — сказал Шурка.
— Не густо, — согласился Козлов. — Хотя старался...
— Нет, ничего, — разглядывая блестевший эмалью орден, сказал Толик. — «Отечественную Войну» не всякому давали, а только тем, кто непосредственно участвовал в боях. Нет, ничего, — успокоил он Козлова. — А в каких вы войсках служили?
— В пехоте.
— В атаку часто приходилось ходить?
— Часто.
Козлов опять спрятал свои награды в мешок и туго затянул узел.
— А почему вы не идете в гостиницу? — поинтересовались мы. — У нас только что отстроили гостиницу, «Астория» называется.
— Денег нет, — сказал Козлов.
— А зачем же вы нам отдали? Мы их потратили вчера.
Он махнул рукой.
— Ладно, не беспокойтесь, мне теперь деньги не нужны...
— А как же так, без денег? Вы в военкомат сходите или в милицию, там помогут.
— Да вот, собираюсь, — засмеялся Козлов. — О господи... Далеко тут у вас милиция?
— Не очень, на Садовой, где раньше сапожная была, мы вам покажем.
— Вот и хорошо. Если не возражаете, я еще сегодня у вас переночую.
— А что нам, живите сколько хотите, если не скучно.
— С вами не соскучишься...
Я предложил:
— А хотите, я вам. книжку какую-нибудь принесу? Будете читать.
Он пожал плечами и долго не отвечал, словно, прикидывал, насколько хорошо ему будет сидеть здесь и читать книжку.
— Ладно, неси...
Я пообещал обязательно забежать к нему вечером, и мы разошлись по домам.
6
Был второй день праздника, и с самого утра во многих домах на нашей окраине гуляли. Гармошки заливались на все лады, перебивая одна другую. В приземистых белых хатках под облетевшими уже пирамидальными тополями, сдвинув столы, уставленные холодцом, и хмельной вишневкой, пели старинные казачьи песни. Подуставших певцов время от времени сменял старенький довоенный патефон в хате у Миши Толочко́, шипя вконец затертой утесовской пластинкой: «...и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. Завтра в поход...» А сам Миша, могучий двухметровый гигант, бывший комендор с крейсера «Красный Кавказ», лежал на кушетке, уставясь в потолок пустыми, выжженными глазницами. Немецкий снаряд угодил в башню крейсера как раз в тот момент, когда Миша, наводя пушку, смотрел в прицел.
Пластинка кончалась, в хате становилось тихо. Миша, не поворачивая головы, делал нетерпеливый жест, и его крошечная, сморщенная старуха мать, торопливо подкрутив пружину, опять ставила все ту же пластинку: «...и лежит у меня на ладони...»
Часов в семь и мой отец с матерью, строго-настрого приказав мне запереться и сидеть дома, наконец ушли в гости. Я немного подождал, пока затихли за окнами шаги, набросил пальто, завернул в газету книгу «Три мушкетера», запер дверь и вышел на улицу. И сразу окунулся в плотную черную темноту. Под нотами чавкала грязь, пудами налипая на галоши, со степи задувал холодный сырой ветер, но то и дело навстречу мне попадались, искрясь цигарками и женским смехом, веселые компании, направлявшиеся в центр — в кино. Светя под ноги отцовским карманным фонарем, выбирая места посуше, я пересек улицу из конца в конец, свернул в проулок, глухой, без единого огня и звука. С бьющимся сердцем я одолел его. В конце проулка, запирая его со стороны степи, мрачно чернели на фоне неба безмолвные развалины синагоги.
Как с самого начала было условлено с Козловым, я три раза негромко свистнул, предупреждая его — свои. Подождал и еще дважды повторил сигнал. Потом прислушался. Из недр трущобы не долетало ни звука. В коробке разрушенного здания было еще темней, чем на улице, вверху завывал ветер и монотонно ударялся о кирпич кусок тонкой, оставшейся от крыши жести. Словно кто-то притаился в темноте, сторожа каждое мое движение, и равномерно, с тайным смыслом отбивал — тук, тук, тук... Но совсем неподалеку в какой-то хате на соседней улице горланили «Галю молодую», слышался приглушенный девичий визг в саду и негромкие голоса идущих по дороге людей. Это меня ободрило, и лишь потому я не убежал домой.
Не дождавшись никакого ответа, я отодвинул в сторону лист железа, скрывавший вход в «блиндаж», и, светя фонариком, протиснулся внутрь. «Эй, есть тут кто?» — позвал я и направил тонкий, слабый луч в пыльную темноту подвала. В помещении было пусто. Еще пахло табаком, воском от свечи, не прогоревшим до конца углем из печки. Держась поближе к выходу, я обшарил фонарем все углы — Козлов исчез. Но посреди аккуратно прибранной, застеленной одеялом постели валялся смятый, наполовину выпотрошенный вещевой мешок нашего квартиранта, белела стопка белья, тут же лежали нож, прибор для бритья, едва початая пачка махорки — ничто не говорило, что хозяин всех этих вещей больше не вернется. «Наверное, пошел подышать свежим воздухом, — решил я, — в городе праздник, чего сидеть тут одному».