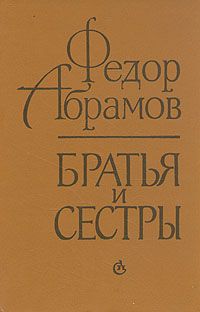Федор Абрамов - Дом
Калина Иванович, шумно, тяжело дыша, подал с кровати голос:
– Воздуху бы мне…
– Какой тебе воздух-то? У меня труба открыта с утра, а окошко и дверь нельзя – живо прохватит.
Михаил, чтобы хоть как-то приободрить старика, сказал:
– Про Колыму говорим… Не забыл еще, как тебя жена из ямы вытягивала?
– Да уж верно что из ямы, – сказала Евдокия. – Я попервости на эту Колыму попала, нарадоваться не могу.
– Понимаешь, – Михаил живо кивнул Петру, – разыскала!
– Да, легче было иголку в зароде сена найти, чем в те поры человека. А я нашла. В первый же день смотрю, вечером колонну с работы ведут – он. По буденовке узнала. Все идут одинаковы, все в ушанках, все в бушлатах, а он один – шишак в небо. Сердце екнуло: мой. Едва на ногах устояла. А потом неделя проходит, другая проходит – нету. Не видать буденовки. Опять с ума сходи, опять пытка: жив ли? помер? Тогда ведь этих зэков мерло, как мух. На этап угнали? Думала, думала, открылась сестре из лазарета. Хорошая женщина, из Ленинграда, сама десять лет отсидела. Так и так, говорю, Маргарита Корнеевна, закапывай живьем в землю але помогай. Ты в зону доступ имеешь, узнай – что там с моим мужем Калиной Дунаевым? "С Калиной Дунаевым? говорит. – Да ведь он, говорит, у нас в лазарете лежит, не сегодня-завтра помрет. Понос, говорит, у него кровавый".
О господи, господи! Сколько лет искала, сколько мук приняла – и все напрасно, все ради того, чтобы узнать: муж помирает. Нет, нет, землю переверну, небо сокрушу, а не дам мужу умереть. Все сделаю, на все пойду, сама себя живьем закопаю, по косточке воронам отдам, а спасу мужика! А спасенье-то, господи… в стеклянной баночке из-под компота стояло. У кладовщика. В каптерке на окошке. Отваром рисовым надоть было поить, рису добыть. А рису нигде не было ни зернышка. Только у кладовщика был, да и то с какой-то стакан в этой компотной скляночке. Весна была, старый привоз израсходован начисто, а новых пароходов когда дождешься… Пошла к кладовщику. А кладовщик рожа красная был, издеватель. И уж как он надо мной не измывался, чего не говорил – рот не откроется, чтобы все сказать. А тут еще в это время сам начальник в каптерку влетел. Увидел меня не в положенном месте – две морды из охраны свистнул, на допрос. Ну тут уж я не запиралась. Все рассказала как на духу и про себя, и про сына, и про Калину – один лешак, думаю, помирать. И вот чего, бывало, про этих начальников не наслушаешься, чего не наговорят, а были и меж их люди. До прошлого года, до самой смерти нам письма писал. Он, он спас Калину. Насмотрелась, навидалась я за те годы всякого народушку – и зверья лютого и святых вживе видела.
В наступившей тишине стало слышно, как тяжело дышит Калина Иванович. Потом его дыхание заглушил дождь, со всхлипами, со стонами забарабанивший в рамы. Петр подошел к левому окошку, у которого в погожие вечера любил посидеть Калина Иванович, уткнулся лбом в холодное стекло, а Михаил смотрел-смотрел прямо перед собой и вдруг потянулся к водке: может, от нее, стервы, полегче станет?
Евдокия, уже хлопотавшая возле мужа, спросила:
– Чего так за воздух-то грабишься? На дождь, наверно?
– Свет зажгите…
– Чего? Свет? – Евдокия переглянулась с Михаилом и Петром. – Да у нас когда электричество пылат.
– А у меня ночь в глазах…
– Дак, может, «скору» вызвать? Калина Иванович долго не мог отдышаться, в горле у него булькало, потом все услышали:
– Спойте мою песню…
Тут уж Михаил и Петр посмотрели друг на друга: неладно со стариком. Да и кому пойдет на ум песня после того, что тут только что рассказывалось?
Евдокия первая запела. Правда, не с начала, через рыданья, но запела:
Эх, конек вороной, передай, дорогой,
Что я честно погиб за рабочих…
Да, так всегда, всю жизнь: ругает, на все лады клянет мужа, а что ни скажет тот, все сделает, на край света пойдет за ним.
Петр, давясь слезами, тоже начал подтягивать, а потом переломил себя и Михаил.
Когда под потолком растаял последний звук песни и стало снова слышно, как за окошком всхлипывает дождь, он спросил:
– Хватит одного раза але еще спеть?
Ответа не было.
Он подошел к кровати.
Калина Иванович уже не дышал. Жизнь, может, сколько-то еще теплилась в широко раскрытых глазах – в них, показалось Михаилу, было еще что-то от света. Как знать, может, Калина Иванович, вслушиваясь в слова любимой песни, последний раз видел отблески того великого зарева, в пламени которого он входил в большую жизнь.
Михаил подождал, пока глаза старика совсем не потускнели, и закрыл ему веки.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Таких похорон в Пекашине еще не бывало. Впервые гроб с телом покойного, весь заваленный цветами, венками еловыми, перевитыми красными лентами, венками жестяными, поролоновыми – всякими, – был выставлен посреди клубного зала.
Но и это не все. Приехала специальная воинская часть с медным, до жара начищенным оркестром, с новенькими поблескивающими автоматами (то-то было разглядев и разговоров у ребятишек и мужиков), приехали делегации, как это в газетах сообщают, когда хоронят знатного человека, – из области, из района, из леспромхозов. А уж сколько простого люда собралось, дак это и не сосчитать. Своя деревня, конечно, высыпала вся от мала до велика, но и соседние деревне пришли да приехали чуть ли не всем гуртом.
Местные, свои, чувствовали себя неуверенно – как и что делать на таких похоронах? Когда своего деревенского хоронят – мужика, старуху там или еще кого, – просто: вой, реви во всю глотку, и ладно.
А тут?
Солдаты, бравые, с иголочки одетые, брякают ружьями, музыка, какой многие сроду не видали, – все эти трубы серебряные, тарелки раззолоченные… И вот одни намертво заморозили себя, истуканам стояли, а другие молча, как затяжной дождь, обливались слезами.
Михаил – он с ног сбился в эти дни – и гроб с Петром Житовым колотил (тот впервые, наверно, за два года трезвый был), и пирамидку сооружал, тело обмывать да наряжать помогал, и еще могилу копал.
Сколько он этих могил на своем веку выкопал! Десятки, а может, даже сотни. С четырнадцати лет, с сорок второго года начал заниматься этим делом. В обычное время работа как работа, а были годы – страшно сказать, – когда даже рад ей был. Потому что в самый лютый голод в дом, где покойник, что-нибудь подкидывали из колхоза, из магазина, а значит, и сам худо-бедно подкормишься, да иногда еще какую-нибудь картошину, какую-нибудь хлебную кроху дом принесешь ребятам. Зато уж в мороз, в стужу крещенскую все проклянешь на свете: на полтора, на два метра земля промерзла, все ломом, все кайлом. Взмокнешь так, что пар идет.
В общем, привычно было для Михаила могильное дело, можно сказать, спец в этом деле был, а сегодня лопата в землю не лезла: трясутся руки, и все. Из-за этого, между прочим, да из-за пирамидки – красной краски, в последнюю минуту выяснилось, в сельпо нет – он и на траурный митинг опоздал, так что когда вошел в клуб, главные ораторы уже выговорились, пионерия свой голосишко пробовала.
Шумилов, новый председатель сельсовета, не успел он перевалить за порог, замахал рукой: сюда. А когда он, горбясь, приседая на носки, подгреб к изголовью – там табунилось все приезжее начальство да местная знать, сказал:
– Становись в почетный караул.
Суса-балалайка – она по старой памяти повязки красные с черной каймой крепила – пришла в ужас: как? в таком виде – в кирзовых, перепачканных землей сапожищах, в мятом-перемятом пиджачонке (не в параде же рыть могилу!)-и в почетный караул?
Но Михаил встал. Встал в голову, неподалеку от стула, который был специально поставлен для Евдокии. Но Евдокия отказалась сесть. Она будто бы сказала:
– Всю жизнь перед ним стояла, дак неуж у гроба буду сидеть? В последний прощальный час…
Вот тут Михаил впервые за последние два дня разглядел более или менее Калину Ивановича. Усох, нос выпер во все лицо, на верхней губе царапина (Петра подвела рука – он брил покойника), щеки и рот провалились (забыли вставить зубы, пока еще не закоченел совсем)… И Михаил, скошенным глазом водя по лицу старика (сам-то он стоял как вкопанный), подумал: да неужели это тот самый человек, который когда-то один монастырь с мятежниками взял?
Но со стороны Калина Иванович на своем красном помосте выглядел внушительно, и тут надо благодарить Петра Житова. Он, Петр Житов, забраковал первую домовину, которую начал было Михаил кроить у себя в сарае. Смерил хмурым взглядом длину уже заготовленных, распиленных досок, перевернул одну, другую и плюнул:
– Ты думаешь, кого хоронишь?
В общем, пошли на пилораму, выбрали из груды бревен толстенную лиственницу (очень устойчива к сырости), распилили и такую гробницу отгрохали – ахнешь!
Гроб попервости хотели везти на партизанское кладбище на грузовике, тоже обитом красным сатином, – тут, наготове, у крыльца клуба стоял, – но Михаил запротестовал: