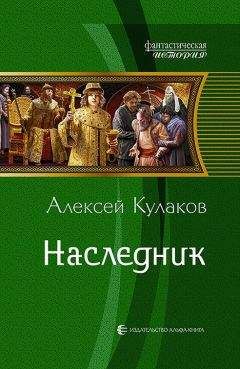Юрий Яновский - Кровь людская – не водица (сборник)
Он, как чужой, подходит к своему просторному двору, отворяет глухую калитку, навстречу с темных бревен поднимаются Олеся и Гнат. Сынок ростом уже догоняет мать. Все трое молча сходятся посреди двора. Первым, не поднимая головы, нарушает молчание Гнат.
— Что там решили? — Он показывает рукой в сторону, откуда пришел отец.
— Ничего не решили, — отвечает Супрун, дивясь, откуда сын знает, что он идет от Созоненка.
— Побоялись, что ли? — Сын поднял тяжеловатую для подростка голову. И там, где у отца под усами горделивая линия рта, у сына скользнула недобрая улыбка, и он прикрыл ее рукой.
— Цыц! — Супрун огляделся по сторонам. — Я оставил это сборище, первым домой ушел.
— И зря оставили. Дом не убежал бы и через час.
Сын снова поднял голову, с вызовом посмотрел на отца. Глаза его, колючие, так же глубоко посаженные, как и у Супруна, потемнели от злого упорства.
Супрун видел только эту тьму и не различал за нею глаз сына.
— Ты когда это научился так с отцом разговаривать? — хмуро спросил он.
Однако и это не остановило парня, рот ему кривили не по летам зрелая злоба и неукротимость.
— Когда бы ни научился, а от людей в такое время бежать не надо!
— А ты знаешь, что эти люди готовы убивать?! — едва сдерживая гнев, проговорил Супрун.
— За землю и убивать можно, — твердо проговорил сын, повторяя чьи-то слова. — Она святая.
Супрун на миг оторопел, а потом дал Гнату оплеуху.
— Молчи, сукин сын! Ты откуда, падаль, знаешь, что такое земля и дороже ли она человеческой крови?! Сперва заработай ее, надорви на ней жилы! От Карпа Варчука погани набрался? Я у тебя это дикое мясо огнем выжгу!
Он размахнулся второй рукой, но на ней повисла его молчаливая Олеся.
Успокойся, Супрун, успокойся, дорогой! Дитя неразумное, сболтнуло с чужих слов…
А «дитя» выплюнуло на ладонь кровь, посмотрело на нее, а потом недобро покосилось на отца, отвернулось и, бормоча под нос, зашагало к овину. Ворота овина так хлопнули, что у колодца зазвенела защелка журавля.
В кого только уродился его сын? Кто посеял у него в сердце такую злобу? Ни своей упорной, трудолюбивой, ни Олесиной ласковой крови не чувствовал в нем Супрун. Эх, трудней всего с детьми, которые с колыбели богато живут! Им неведомо, что такое насущный хлеб, размоченный потом.
— Вырастили сынка, хорош! — Супрун поднес руку к глазам. — Такой и земле в тягость.
— Варчуков сорванец возле него целый день вертелся, тот и святого на подлость подговорит. — И Олеся бережно, как ребенка, увела мужа в хату.
В сенях Супрун почему-то повернул на ту половину, где у них была дубильня. В долгие годы войны он изредка брался за свое старое ремесло, чтобы изготовить себе и соседям кожу на обувь или на упряжь.
Луна заглядывала в дубильню, освещала зольник, чаны, мешки с золой и козлы, на которых висела неочищенная шкура.
Супрун вместе с женой сел на самодельную скамью, и Олеся прижалась к нему, как в тот день, когда они, полные надежд, впервые сели в своей дубильне. Это был не совсем еще ясный, но надежный рассвет их жизни. А теперь ночь смотрела в их налитые тоской и страхом перед неизвестностью глаза. Супрун твердо положил руку на плечо Олеси. Что ни говори, а жену ему бог послал будто ясный денек.
— Что же теперь будем делать, Олеся? — спросил он, впервые в жизни советуясь с нею.
И она, его тихая тень, его смущенная улыбка, его печальная думка, тоже впервые в жизни принялась его утешать.
— Жили мы, Супрун, на двух десятинах, жили и на пяти, стало у нас десять, а потом и за двадцать перевалило. Так что ж мы — не как все люди?! На норме не проживем?
— Да разве человеку норма нужна? Я хотел, чтобы ты у меня на старости лет княгиней жила.
— А может, обойдемся без княжества? — грустно улыбнулась Олеся, не зная, не остановит ли ее вспыльчивый муж: у него для порядка жена приучена молчать. — Побывала я раз на веку княгиней, и будет с меня.
— Когда же это было? — спросил он, не сообразив.
— А когда ты князем был, на свадьбе у нас. Помнишь тот день?.. Тогда небо хмурилось и прояснялось, и дождик пролился на землю, как солнечный сок…
— Да, тогда солнце светило.
Супрун поглядел на луну. Как давно это было! Ему вспомнился свадебный двор, бояре, дружки, невестины подруги. И снова на глаза надвинулась мгла.
— Не могу, не могу, Олеся, без своей земли, она уже небось и в сердце набилась. Как мы мучились над ней!
— Мучились, Супрун. И кто его знает, надо ли было? Может, когда-нибудь дети или внуки посмеются над тем, как мы жили, гоняясь за богатством.
Он с удивлением взглянул на свою тихую жену: она ли это говорит? Когда же она этому выучилась?
— Смеяться будет только тот, кто земли не понимает, кому все равно, колос ли над нею покачивается или бурьян цепляется за грунт… А новая власть понимает землю?
— Должна бы понимать, раз хочет, чтобы у каждого мужика был надел, — снова нашла неожиданные слова жена.
— Раздать землю — то меньше половины дела. А вот понять землю — это потруднее. — Супрун подумал и вдруг встал. — Пойду-ка я к Мирошниченку, спрошу его, понимает новая власть землю или нет.
— Может, завтра пошел бы? — поднялась вслед за ним и Олеся и потянулась руками к его плечам. — Чего ночью людей будоражить?
— Нет, сейчас пойду. Не могу я иначе, не могу — так и печет в груди.
Олеся знала, что отговаривать его бесполезно. Молча, как тень, проводила его до улицы и долго жалостно смотрела, как он уносил в глубь ночи свое сильное тело. Не легко, не хозяйкой, батрачкой прожила она у него. Из-за проклятого богатства подурнел Супрун и лицом и душой, из-за денег враждовал не только с людьми, но и с богом: на что господь столько праздников дал? Однако Супрун ни разу не ударил ее, ни разу не пошел к другой и перед людьми не лаял, только хвалил, — а это походило уже на женское счастье.
Супрун не постеснялся-таки разбудить Свирида Яковлевича и, когда тот вышел из хаты, попросил его присесть на завалинку, расшитую тенями вишен.
— Давно ты не бывал у меня, Супрун. — Мирошниченко вглядывался в измученное думами лицо гостя.
— Не пристало кулаку к партийному идти, — ответил Фесюк, забыв спросить, понимает ли новая власть землю: свое больше болело. — Хотя, как подумаешь, не всегда я был кулаком.
— Не всегда, — согласился Мирошниченко. — Я еще хорошо помню, как вы с Олесей выгоняли первый воз кож. Тогда и я к вам частенько заходил, сам перенимал кожевничью науку.
— А помнишь, как у нас горели пальцы, как с них шкура слезала, когда мы с тобой вымывали шерсть, настоянную в извести?
— И это помню, Супрун. Проклятая была работа!
— Не всякий кожевник гнался за такой шерстью. Ну, а теперь ты приравнял меня к Варчуку и Сичкарю. Так что мне делать — брать обрез и убивать тебя?
— А это уж, Супрун, как тебе совесть подскажет, — спокойно ответил Мирошниченко. — Если она за годы твоего богачества стала комом грязи, бери обрез и ступай убивать людей. Большое богатство всегда с этого начинается или этим заканчивается.
За короткое мгновение Супрун перебрал в голове с десяток известных ему в уезде богачей и подумал, что слова Свирида Яковлевича многим из них не в бровь, а в глаз.
— А мое, Свирид, богатство с правды, с кровавых мозолей, а не с паскудства начиналось, не паскудством и кончится. Я-то свою землю честно заработал?
— Не всю, Супрун.
— Как — не всю?
— Ту, что ты заработал, — честно заработал. Эта твоя земля чиста, как солнце. А про ту, что для тебя батраки зарабатывали, — прости, но скажу так, — на тех нивках чужой пот поблескивает.
— Я же батракам работу, хлеб давал.
— А Варчук по-другому скажет? То же самое. Вот в этом и сошлись вы на одной дорожке.
— И в одном списке нам судьбу записали?
— Список, Супрун, один, — заметил Мирошниченко, начиная понимать, о чем тревожится Фесюк, — да не одно думают люди про тебя и про Варчука.
— Спасибо, Свирид, и за то. Тебе, как партийному, можно и поверить — вы нашего брата не больно почитаете. Н у, а что же мне дальше делать? Землю-то заберете?
— Заберем.
— Страшный ты, Свирид, человек: в глаза все говоришь. В глаза-то хоть ложью бы утешил.
— Ложь, Супрун, и впрямь немалая утеха, — помолчав, проговорил Мирошниченко, думая о лжи в мировом масштабе: всю землю оплела она, правдой вырядилась, нелегко будет людям выдирать ложь из мозгов, из протертых коленями храмов. — Может, Супрун, я тебя правдой утешу?
— Правдой, ежели много ее, тоже можно невзначай человека убить.
— А в революцию, Супрун, ничего понемногу не бывает, кроме хлеба.
— Ну, спасибо, утешил, полегчало! — Под губами у Фесюка дрогнули морщинки. — И знаешь как полегчало? Сдавили тебе петлей шею, так что глаза на лоб полезли, а потом чуток отпустили ее — глотни, бедный человек, воздуху. Хорошее облегчение?