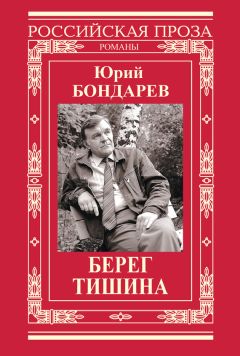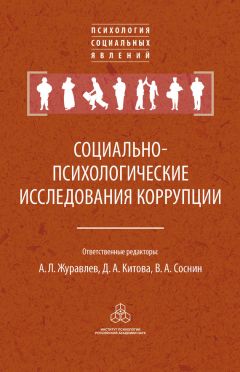Юрий Бондарев - Берег
Задним ходом самоходки действительно отодвигались к лесу, к той опушке, откуда вышли они, пятились по шоссе, бегло отстреливаясь, затем ближняя неуклюже развернулась, тускло скользнув под солнцем серой пятнистой броней, отрыгивая колючие трассы искр из выхлопных труб, отползая назад, и тотчас в мутной мгле, текшей вдоль шоссе, кругообразно, тяжело и грузно зашевелились три следующие за ней самоходки, стали отходить, вытягиваясь поочередно, к опушке. Это Никитин теперь ясно видел и так же видел ясно два бронетранспортера, замедливших атаку на берегу озера, где падали и вставали фигурки нашей пехоты, — и бронетранспортеры начали откатываться к лесу, сверкая по этим фигуркам толстыми пунктирами крупнокалиберных очередей.
Немцы, сначала предприняв нацеленную атаку на городок, отступали в лес, но то, что Никитин ощутил при этом мгновенную надежду на скоротечный исход боя, было его заблуждением, которое не имело облегчающего разрешения.
Самоходки с замедленным упорством отползали в глубь леса, густо гудя моторами, ломая молоденькие сосны, расползались в стороны от дороги на невидимые просеки, непрерывно и в упор били по шоссе, вплотную по двум сторонам зажатое стенами сосен, и шоссе уже казалось узким коридором лабиринта, толкаемым разрывами куда-то в адскую черноту, закипевшую, расколотую грохотом, заполненную до краев дымом, рвущимися всплесками огня. И, как в уплотненной темноте наступившего внезапно вечера, рассекаемого низкими молниями, невозможно было точно определить, куда отходили, откуда стреляли самоходки, как меняли позицию между деревьями, и Никитин, с отчаянием от этой неясности положения, от этой слепоты, подавал команды, ловя на секунды стремительные выбросы прямого пламени из сбитого в темноту дыма, стреляя на ощупь, почти незряче, лихорадочно охваченный единственной мыслью: «Скорее, скорее! Выйти бы куда-нибудь из этого проклятого лабиринта, из этого проклятого коридора! Скорее, только бы скорее!..»
Он видел мелькание серо-грязных бликов возле орудий, угадывал лица расчетов, сквозь грохот слышал яростный животный крик Меженина, матерившегося после каждого выстрела, и не видел слева, за шоссе, орудий первого взвода, около которых был Княжко, даже не смотрел в ту сторону: сразу, как только по команде Княжко привели к бою орудия на опушке леса, выкатив их на плотную прошлогоднюю хвою справа и слева от шоссе, и открыли огонь, прекратилась связь между ними.
В течение нескольких минут все исчезло, все утратило реальность — горячий пот тек по воспаленному лицу Никитина, глаза слезились от огненных толчков пороховых газов, брызжущих жаром осколков над щитом незащищенного землей орудия, и было ощущение железно порхающей в накаленном воздухе смерти, а она звенела ангельскими голосами, гремела, мстительно взвизгивала, в жадном поиске твердого тела наугад мокро врезалась в стволы сосен, топориками срубала ветви, вспарывала землю, вздыбливала асфальт шоссе, осыпая его разрушенную плоть на потные спины еще живых солдат, зачем-то тоже с одержимой ненавистью посылавших смерть наугад, как если бы в этом был весь смысл существования на земле. И немецкие самоходки, и наши орудия, потеряв пространство, расстояние, видимость цели, стреляли, будто окончательно лишенные зрения, и ожидание слепого осколка и чувство, подобное буйному безумству рукопашной схватки впотьмах, которую ничем нельзя было остановить, охватывало Никитина нервной дрожью бессилия, страха и бешенства. Раз после разрыва, накрывшего сосну впереди орудия, он почувствовал вместе с жарким ветром сорванной хвои шлепок в лицо, инстинктивно схватился за обожженную щеку, посмотрел на пальцы — крови не было. Маленький, зазубренный осколок, раскаленный до фиолетовости, ударил его на излете и упал к ногам — знак и предупреждение смилостивившейся смерти. И отрывистый неподвольный смех вырвался из его горла: «Повезло, мне повезло!..» Никто не услышал его смеха, и он, оглохнув от выстрелов, с тупой болью, со звоном в ушах поспешно искал слезящимися глазами взблески самоходок в дыму, невидимых, близких и неуязвимых, в неземном измерении отдаленных куда-то во тьму на тысячи километров.
— Скорее! Скорее!..
Несколько раз подносили снаряды, разгружая машины, груды горячих гильз валялись, скапливались между станинами, и эти гильзы кто-то расшвыривал ногами под беспрерывно выбрасывающим пороховой пар казенником, и звяканье гильз, и жестокая матерщина Меженина, и крики солдат сливались в сознании Никитина в это торопящее, полубезумное: скорее, скорее!
— Скорее!..
А когда впереди широко полыхнул в глубине чащи и устойчиво пошел вверх тусклый от толщи дыма огонь, Никитин не знал и никогда не смог бы узнать, чей это снаряд вслепую достиг самоходку, — там, впереди, на минуту смолкло, и он вдруг задохнулся ликующей беззвучной радостью сумасшедшего и, морщась, не сознавая, зачем торопит себя, подал команду третьему орудию:
— Меженин, вперед!..
Он вконец сорвал голос командами, он хрипел надсадно и, поворачиваясь к третьему орудию, встретил черное потное лицо Меженина, набухшее желваками на скулах, зачерненные пороховой гарью озверелые лица солдат, удивленные, конъюнктивно красные глаза Ушатикова, крикнул опять сорванным горлом:
— Вперед! На колеса! Через кусты! Подальше от шоссе!
— Куда «вперед»? — злобно выговорил Меженин. — Ни хрена не видать, где они! Как у негра под мышкой! На рожон попрем? — И спросил, сощурясь: — Что со щекой? Царапнуло? Ну, лейтенант, сто лет жить!
— Пока они замялись — вперед! На колеса, вперед! — повторно скомандовал Никитин и отсекающе махнул рукой с неумолимостью приказа: — А ну, вперед, Меженин! Вперед!
Он не мог бы сейчас разумно объяснить, какая сила неодолимо приказывала, тянула его сойти с занятой позиции, переместиться хотя бы на десять метров, но тут с другой стороны шоссе дошел до слуха властный голос Княжко:
— Третье и четвертое орудия, впере-ед!.. Никитин, вперед!
По усиленному гудению моторов в дымном кипении впереди, по скрежету гусениц уже можно было понять: самоходки отходили по шоссе, по продольным просекам, и Никитин, вместе с расчетом налегая затекшим до окаменелости плечом на щит орудия, слышал, как меж раскатов разрывов в чаще где-то за лесом без передышки тоненько швейными машинами шили немецкие автоматы, вливаясь в грубый треск наших очередей, хлопающим звоном ударяли противотанковые пушки, вспомнил фигурки пехоты на лугу, приземистые и ловкие «доджи» на окраине городка, их выезд по проселку наискось к лесу, вспомнил и с едкой завистью подумал, что где-то недалеко идет другой бой, чужой, неопасный, что не было там этих незримых самоходок, этого кишевшего слепой смертью лесного коридора, и хрипло выкрикнул то, что скачками проносилось в мозгу:
— Вперед! Вперед! Скорее!..
— На рожон пошли, ясныть! Сто лет вам жить с Княжко, лейтенант, сто лет! — выдыхал рядом Меженин, и сильное, жаркое плечо его теснило, вжималось в щит рядом с плечом Никитина, а ему почему-то мнилось, что сержант лишь делал вид усилия, но весь еще сопротивлялся новому продвижению орудия по его команде. — Сто лет будете…
— Не каркай, у тебя глаз дурной! — пронзительно взвизгнул голос Ушатикова откуда-то снизу, от колеса орудия, и снизу вскинулось всегда доброе, наивное его лицо, набрякшее сейчас лиловой краснотой, струйки пота, размывая пороховую гарь, бороздили его лоб, выкаченные натугой круглые голубиные глаза блеснули страхом суеверной приметы. — Не каркай на лейтенантов! Погибели их хочешь?
— Нас с тобой переживут и закопают, вот тут в лесу! Понял? Оставим тут дощечки после Берлина — погибли, мол, смертью храбрых! А, Ушатиков? — задушливым, озлобленным хохотком ответил Меженин, и плечо его с обманным напором мокро, мясисто засуетилось около плеча Никитина. — Нам прикажут умереть — умрем! А чего? Раз плюнуть! Наше дело телячье… А последние орденки на грудь кое-кому схлопочем!..
Это влажное прикосновение его плеча, лживая подчиненность, фальшивый показ помощи, хохоток и разъедающие слова Меженина, в чем не было необходимого сейчас смысла, сначала не задели Никитина, воспринялись им выплеском запоздалого мщения в связи с недавним столкновением между ними, что Никитин не хотел помнить, как ненужно случайное, мелкое, происшедшее много лет назад, ничтожное по сравнению с тем, что объединяло их теперь, но замутненный рыскающий взгляд, брошенный и отведенный Межениным, поразил его. Нет, это было не злопамятство, не последствие их ссоры, а нечто другое, не заметное никогда раньше, о чем он не мог подумать и секунду назад. «Неужели это?.. Неужели?» Он не придал большого значения в начале боя тому, что не было слышно возле орудия обычных зверовато-азартных распоряжений Меженина, его обычных злых шуточек, перемешанных непристойными словечками, затвержденных жестами, вызывающими облегченный смех солдат, не видел его слева от щита или рядом с наводчиком (Меженин, помнилось, непрерывным мрачным матом подгонял подносчиков снарядов) и не видел, как, выкрикнув команду, он хлопал себя по ширинке, пританцовывал с хохотком: «Вот вам, фрицы!..» — и чего-то не хватало при стрельбе, что-то бесцветно оголилось, обеднело без его грубо-смелой энергии, вроде бы уменьшающей вероятность смерти, без его распорядительной, отчаянной предприимчивости. И Никитин, толкая орудие, вытирая о плечо облитую потом щеку, взглянул на Меженина и даже скрипнул зубами от пойманного мига догадки и ясности, которая была отвратительна ему.