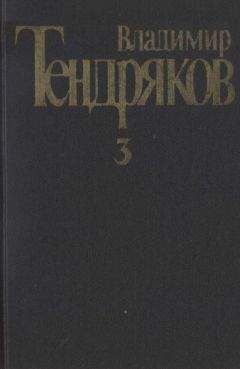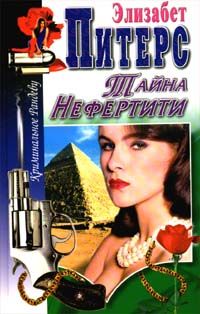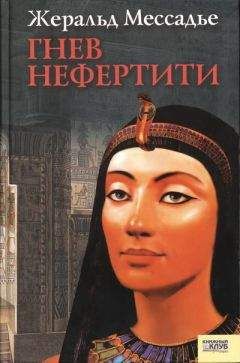Владимир Тендряков - Свидание с Нефертити
— А часы?.. Мишель, часы!
— В душу мать с часами! Брезгую!.. Не трожь, Короста. Пусть поймет, гнида, что гонор не только у него есть… Пошли!
— Мишель, это благородно, но не умно.
— Заткнись!
Две тени утонули в темноте. Некоторое время слышался озлобленно сипящий голос Коросты, смолк и он.
— Быстрей, парень, быстрей… — обрел дар речи Штука. — Как бы не одумались и не вернулись.
Федор поднял мешок с земли, бросил угрюмо:
— Пошли.
— Ну-ка, вот чудеса-то, знакомого встретил… Удача… Только шевели ногами, ради всего святого, шевели. Одумаются…
Федор молчал.
За время войны таких, как Мишка, мимо Федора прошли сотни — в одном окопе, из одного котелка, под одной шинелью, и общая опасность быть похороненным в братской могиле. Мишка не самый близкий из них, были такие, с кем больше прожил, больше пережил, крепче сблизился. И все-таки пакостно на душе, словно встретил не давнего знакомого, а брата-бандита.
До сих пор Федор по своему адресу, по адресу других фронтовиков слышал лестное: «Прошли суровую школу». А это считай — война воспитывает, война очищает от скверны, война, словно ледяной душ, закаляет человека, она чуть ли не облагораживает общество. Но так можно считать облагораживающими чуму и повальную оспу. Война не эпидемия — несчастье вдвойне. И не только потому, что при чуме остаются хоть целыми города и села, а в войну они превращаются в пожарища. Несчастье войны еще и в том, что рождается пресловутая формула: «Война все спишет!»
Ходит по ночным дорогам вокруг подмосковной станции Мишка Котелок, старый товарищ, и, помнится, неплохой товарищ… Ходит прячась, носит в кармане финский нож. Он уверился — дешева же бывает человеческая жизнь, как своя, так и первого встречного.
— Здесь, — сказал Штука, останавливаясь возле одной калитки. — Ух, гора с плеч…
Из-за изгороди тянуло травянистой прелью и почему-то бражным запахом моченых яблок.
27Дома в пригородных дачных поселках — по ним можно угадывать не только характер теперешних жильцов, во и историю многих поколений.
Большинство домов — новые. Они говорят о преуспевании их хозяев — работали ли они на Севере, получая высокую северную надбавку, выдвинулись ли они на научном поприще или, пользуясь военным временем, спекулировали картошкой, откладывая в заветные чулки мятые рублевки и сотенные, — и вот вам шиферная крыша, дощечка у калитки, предостерегающая: «Во дворе злая собака», и хозяин-пенсионер пьет чай с ягодами да собственного сада.
Старые дома… Одни обросли надстройками, мансардами, времянками, семья, возведшая в кои-то годы крышу, разрослась, расплодилась, раскололась на много семей, каждая заводит свое хозяйство, теснит других, отвоевывая площадь, ссорится, судится, обносит заборчиками крошечные участки… Надстройки, мансарды, сараюшки…
Но есть старые дома, которые когда-то служили одной большой монолитной семье, и она не разрослась, не расплодилась, а, наоборот, разбрелась по свету, повымерла. В таких обычно запущенный сад, ветхая крыша, требующая ремонта, кладбищенская тишина, и среди всего этого многолетний абориген коротает последние дни с каким-нибудь юным отпрыском, который ждет не дождется, когда у него отрастут крылья, чтоб улететь из родового гнезда. В суетливый мир, подальше от кладбищенской тишины!
Дом, куда попали Федор со Штукой, как раз был старый и незаселенный. О его возрасте можно было судить по двум дубам, которые, верно, посадили по обе стороны крыльца в год строительства. Дубы вымахали, уже кладут на обветшавшую крышу свои ветви в ржавой шелухе прошлогодних листьев. Стволы дубов корявы и узловаты, корни оплели землю, вспучили каменные ступени крыльца. Эти каменные плиты стесаны ногами многих поколений. Сколько раз по ним выносили почивших в мире жильцов, их топтали ноги детей, которые вырастали, наливались силой, старились. Сам дом — большой, темный, но не угрюмый, старый, но еще не совсем ветхий, напоминающий о почтенном долголетии, но не о смерти.
А внутри, под крышей, на мозолистом от сучков скрипучем полу, дремлют вещи бабушек и дедушек — секретеры с бронзой, шкафы на львиных лапах, кресла с высокими резными спинками и — чопорный сумрак и седая пыль. Где-то шла война, горели города, самолеты сбрасывали бомбы, а секретер с бронзой уютно стоял в углу, и в его ящике, должно быть, лежала и лежит сейчас забытая связка писем — прабабушка писала своему жениху. И быть может, она сообщала о литературной новинке, «Севастопольских рассказах», написанных неизвестным молодым офицером, носящим родовитую фамилию графов Толстых. Горели города, окопы рылись на берегу Волги, а секретер стоял… Стоял старый дом… Не раз снаружи неистовствовал грозовой дождь, а в комнатах сухо.
Хозяева дома — дед, дочь, внучка — эстафета поколений. Дед высокий, седая, в голубизну, голова, черные, густые строгие брови. На желтом, измятом мелкими мягкими морщинами лице — тихая, предупредительная доброта. Глядя в его кроткие вылинявшие голубые глаза, на невнятную скорбинку в складке блеклых губ, становилось неловко за всю ту грубость, к какой ты прикасался в жизни. Тебе случалось сквернословить, видеть, как убивают людей, видеть кровь, трупы, спать в грязи, искать вшей в нательной рубахе. Казалось, этот человек ничего такого не знал, прожил святым. Но это только казалось. Что-что, а кровь и смерть, наверно, видел и он, и видел немало. Он был врачом, основал большую поликлинику в этом поселке, когда-то его имя пользовалось известностью, теперь на пенсии, обременен старческими недугами, не выходит за калитку, забыт всеми.
Дочери его — лет сорок, она тоже врач в отцовской поликлинике, у нее пугающие суровостью брови, носит короткую прическу, одевается неряшливо, говорит резко и решительно, напоминает делегаток-общественниц двадцатых годов. Вечерами она приходит усталая, с запавшими глазами, молчит… Штука робел перед нею, пожалуй, не меньше, чем перед Мишкой Котелком, прячущим в кармане финку.
Третий член семьи — внучка, девчонка лет тринадцати, — круглое румяное лицо, льняные волосы, как у матери, острижены коротко, по-мальчишески, чистые голубые глаза… Для нее появление рабочих-маляров — событие.
Федор и Штука, почти не сговариваясь, решили не затевать никаких новшеств:
— Умоем дом, омолодим — и дело с концом.
Работали не спеша, проникновенно, не заботясь о времени, невольно подчиняясь покойному ритму старого дома, для которого день или месяц — одинаково малые величины в вековой жизни.
И была какая-то успокаивающая прелесть в том, чтобы за трещинами, копотью, пятнами, за грубой побелкой, сделанной каким-то случайным маляром-халтурщиком, за всеми старческими морщинами угадать молодое лицо дома, осилить время, повернуть вспять.
Лепное украшение на потолке все покрошилось, но Федор по жалким остаткам лепки понял рисунок и долго торчал на стремянке, возился с алебастром — восстановил.
Штука сказал одобрительно:
— Ты — парень с соображением.
А старик хозяин грустно сменился в лице:
— Я его по детству помню, только по детству… Давно забыл, и прочно. Как вы догадались, что оно именно так выглядело? Вы чудодей.
Федор был горд.
Возле них постоянно вертелась внучка старика, следила, как во дворе разводили купорос, как сдвигали с места многими десятилетиями не тревоженную мебель, как Штука на плите варил вонючий клей. У нее под светлыми ресницами мягко лучились глаза, в изгибе тонкой шеи — что-то хватающее за душу, доверчиво-ласковое, в пухлых губах — перешедшая от деда добрая складочка. Девочка ходила за Федором как собачонка, поминутно заглядывала в глаза, ждала чудес. Федор наслаждался этой привязанностью.
За книжным шкафом он нашел лист твердой и желтой, как слоновая кость, бумаги — она, кажется, так и называлась в свое время — «слоновая», приколотил ее драночными гвоздями к двери, которую обрабатывал для шпаклевки.
— Садись, — сказал он девочке, — нарисую тебя.
— А вы умеете?
— Умею.
Штука охотно бросил работу, пристроился рядом.
Девочка уселась, натянула на колени подол юбки, насмешливо фыркнула и застыла, пугливо мигая ресницами.
У Федора под рукой был огрызок плотницкого карандаша, который оставлял на бумаге туманно-мягкие, широкие штрихи и почти невидимые ломкие линии. На глаза под ресницами легла тень, щеки, волосы чуть намечены, губы сдерживают рвущуюся наружу улыбку…
Шаркая сваливающимися с сухих ног тапочками, вошел старик. Постоял, кашлянул смущенно и тоже присел рядом со Штукой. Штука хвастливо объяснил:
— Талант… Все может… На улице парня нашел. У меня глаз наскрозь видит.
Старик не ответил. Слышно было лишь, как нервно шуршит по бумаге карандаш. Девочка, пораженная вниманием взрослых, посерьезнела, перестала кривить губы в улыбку, но на бумаге так и осталось — губы сдерживают смешливость.