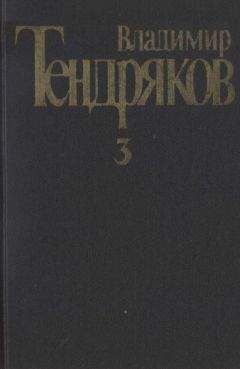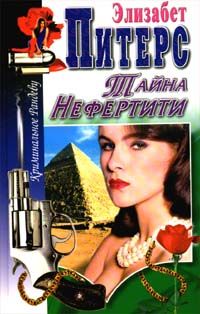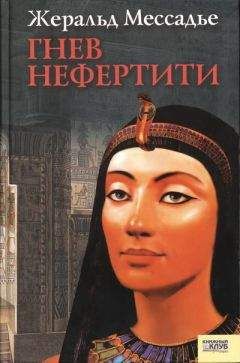Владимир Тендряков - Свидание с Нефертити
Иван Мыш говорил длинно и обстоятельно. Лева Православный, сперва слушавший с предельным вниманием — шутка ли, Мыш Без Мягкого в роли оратора, — мало-помалу дремотно сник, заметив Федору:
— Он, без сомнения, способен, старик. Неделя, как избран, а толкает речугу, как будто всю жизнь только этим и занимался, даже в сон сразу бросает…
Федор был доволен и горд. Он спросил Православного:
— Скажи: какая самая благородная профессия на свете?
— Художник, — ответил Православный. — Хорош я был бы, если б иначе думал.
— Нет, врач-исцелитель.
— А ты к чему это, старик?
— Себя сейчас чувствую исцелителем. Любуюсь на Мыша и радуюсь — на трибуне, а еще недавно жаловался: «Все в куче, а я в стороне».
— Радуйся, а я пока подремлю немного.
26Маляр Штука отвел беду от Федора. Золотые багеты на радость маме-фараонше были прибиты на стены, Федор рассчитался с долгами, купил новые брюки. А новоявленная Нефертити так и ушла в прошлое…
Федор часто провожал Нину, возвращался от нее к утру. Нина жила одна — мать умерла в войну, отец, инженер-строитель, работал на Севере, присылал деньги. Кажется, там у него была новая жена.
Нина об отце не вспоминала, о матери говорила охотно. По ее словам, мать была знаменитой актрисой, в детстве они жили за городом, в старом особняке с запущенным парком, среди кустов малины росли одичавшие розы, дикие белки прыгали по дорожкам… Федор не возражал, особняк так особняк — девчонка любит путать жизнь со сказкой.
Маляр Штука отвел беду, и все стало на свои места — собственные холсты радовали, новые штаны еще не протерлись, долгов, считай, нет, правда, сыт не каждый день, но так ли уж это важно… Наверное, такое и называется счастьем.
Весной к майским праздникам Штука нашел работу за городом.
— Выпускать из рук жаль — пять комнат подновить, и хозяева сговорчивые. Только за три дня не справимся, освободись как-нибудь еще деньков на пяток.
Федор пошел к Валентину Вениаминовичу, объяснил то, что и не требовало объяснения: «Не свожу концы с концами, не подзаработаю — протяну ноги. Помощи из дому нет…»
Отпустили.
От станции шли нагруженные нехитрым скарбом — мешок с рабочей одеждой, с банками краски, бутылью олифы, пачками купороса и казеинового клея да насос-опрыскиватель, завернутый в тряпье. Темнело. Вместе со сгущающимися сумерками крепла пьяная горечь распускающихся почек, замирали звуки.
Стиснутые оградами улочки были пусты, где-то за кустами, за запертыми калитками теплились окна. Вечер — спать еще рано. Вечер, те часы, когда большинство людей на время перестают быть членами великого всечеловеческого общества, забывают о том, что днем они служили в учреждениях, работали на заводах, подбивали смету, управляли рычагами машин, делали совместное дело, чтобы все могли жить. Вечер отдан семье. Вечерами возрождаются первобытные законы кланов. Настольная лампа за чайным столом заменяет древний костер. Царствующий патриарх — отец и хранительница домашнего очага — мать владычествуют над подвластным потомством — Вовочками, Петями, Ирочками. Владыки обсуждают сугубо важный вопрос — почему кашляет Вовочка. Теплятся окна в пахучий предмайский вечер, семьи обособились от семей. И тоскливо становится человеку, идущему по улице, у которого нет семьи, кто оторван от отца и матери, и оторван, наверное, навсегда. Шумный спор над студенческими койками, решающий вселенские задачи, не заменит тихой, озабоченной беседы за чайным столом. Теплятся окна, и чувствуешь себя таким же неустроенным, как в окопе.
В темноте вызывающе громко стучат сапоги по утоптанной дороге. Штука оглядывается по сторонам — чем-то обеспокоен.
— Замешкались мы с тобой. Беда как замешкались… — В голосе его тревога.
— Иль в дом не пустят? — спросил Федор.
— В дом-то пустят, да до дому-то надо добраться. Он за пустырем.
— Ну и что?
— Все бы ничего, да…
— Что — да?.. И чего ты головой крутишь?
— Глянь ненароком через плечо.
Федор оглянулся: сзади, в нескольких шагах, маячили в темноте две фигуры.
— Не играй труса раньше времени. Может, такие, как мы с тобой.
— Ой, навряд ли… Давно за ними поглядываю. Балуют тут… После войны — не к ночи будь помянуто — развелось разной шпаны. Ишь, прижимаются…
— Ну и что? С нас много не возьмут.
— Откуда им знать, что идет голытьба перекатная. Видят — мешок несут. Остановят, надсмеются, сапоги поснимают.
— Свои сапоги я им с поклоном отдам, лишь бы на рожи их поглядеть.
— Поднажмем, сынок, может, оторвемся. Тут за пустырем и наша дача.
— Нет, шалишь, не дождутся, чтоб бегал. Подойдут — побеседуем.
А сзади слышен напористый стук каблуков.
— Бежим, Федька…
— Иди, как шел.
Уже слышно за спиной прерывистое дыхание. Федор пошел медленнее, Штука жался к нему острым плечом.
— Эй, погоди, браток, дай прикурить!
Федор остановился, опустил на землю тяжелый мешок, полез в карман, вынул спички. Черт возьми, под рукой, кроме мешка, ничего нет. А у них, наверно, ножи…
Выросли тесной парой — один долговязый, судя по одышке, уже немолод, второй невысок, плотен, плечист.
Федор чиркнул спичку, прикрывая огонек от себя ладонью, шагнул вперед:
— Прикуривай.
Невысокий выбил огонь из рук:
— Невежа, чего в рыло суешь? Обхождения не знаешь.
Но Федор успел уже осветить его лицо: широкая скуластая физиономия, маленькие дерзкие глаза, добродушно вздернутый нос. А ведь он где-то его видел… Давно, в забытом времени, где-то… Выпирающий на стороны скулами округлый овал лица, бойкие глаза враскос, нос вздернутый, с открытыми ноздрями…
— Мешочники! Спекулянты!.. А ну, давай сюда мешок! Быстр-ра!
— Федор, — произнес рядом блеклый голос Штуки, — отдай им мешок. Пусть… С богом…
— А где-то я тебя видел, — сказал Федор.
— Может, расцелуемся? Нашел знакомых… Но-но! — Федор пошевелился. — А вот это ты нюхал?
Перед носом Федора тускло блеснуло лезвие ножа.
— Храбрый же ты, парень, — бросил Федор. И вдруг спросил: — Лейтенанта Пачкалова помнишь?
Рука с ножом опустилась. Долговязый недовольно просипел пропитым баском…
— Сымай часы, сука… Мишель, у него часы блестят.
— Так вот как встретились, Мишка Котелок!
— Дай-ка этому разговорчивому, Мишель, — сипел долговязый.
— Заткнись! — остановил Мишка. — Ты кто? Как звать?
— Память коротка… Тебе мешок? Бери. Только там не поживишься — пять банок красок да бутылка олифы. Сбудешь, своих прибавишь — на поллитровку хватит.
— У-у, су-ук-ка! — подался вперед долговязый.
Мишка молча ударил его в бок.
— Не разгляжу в темноте. Разве признаешь, сколько лет прошло!
— Командир отделения при Пачкалове кто был у тебя?
— Паренек какой-то… Это ты?..
— Ну а звать забыл?
— Постой… Федька!.. Вспомнил! — Мишка Котелок повернулся к долговязому: — Что сучишь, Короста? Я с ним в одном окопе сидел. Не вздумай тронуть — кишки выпущу — А ты извини, всяко бывает… Помню, как ты воды принес, тебе Пачкалов под нос пистолет совал… Эх! Судьба — злодейка, жизнь — копейка! Кто с тобой?.. Папаша, извини, ради бога, — осечка вышла. Пойдем, Федька, выпьем за встречу. Пойдем, угощаю! Эх ты, свой на своего напал.
— Свои — были, теперь вряд ли.
— В одном окопе сидели, живыми встретились.
— Живыми встретились, да живем по-разному.
— Гляди, Мишель, учит уму-разуму, — снова засипел долговязый. — Он — беленький, ты — черненький, зазорно с тобой.
— Заткнись!.. Федька, или вправду зазорно?
— Вроде этого.
— Мишель, он легавый. Мишель, он, зараза, стоит а думает, как бы донести. Жалеет, сука, — мента поблизи нет.
— Федька, или вправду?
— Доносить не буду — уволь. И пить с тобой не хочу. Остаться в живых для этого?.. Эх!.. Тебе не зазорно, так мне зазорно.
— Ты! — В темноте блеснули оскаленные Мишкины зубы. — Не тыкай, что я живой. Мне, может, моя жизнь недорога. Хошь, ее на твой мешок сменяю? В легком осколок, в башке вмятина, а сунули пенсию, и живи! Береги свою жизнь! Тяжелого не подымай! Живи!.. А я и живу, покуда можно, не подымаю тяжелого, чищу чистеньких! И тебя, сволочь, вычистил бы, да грязноват, не по мне!
— Мишель, у него часы.
— У-у, легавый! Думаешь, ты первый ткнул! Все тычут, все советуют! Иди, мол, в сапожники, в артель инвалидов. Догнивай в сапожниках, харкай остатками крови, что осталась. Не всю пролил!
— Мишель, ты зря треплешься… У него — часы.
— За такую б… жизнь да держаться! Держись ты, сволочуга, а советы не давай. Не то подвернешься — язык отхватят… Пошли, Короста!
— А часы?.. Мишель, часы!
— В душу мать с часами! Брезгую!.. Не трожь, Короста. Пусть поймет, гнида, что гонор не только у него есть… Пошли!