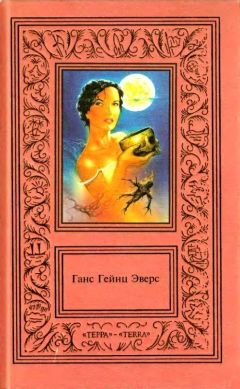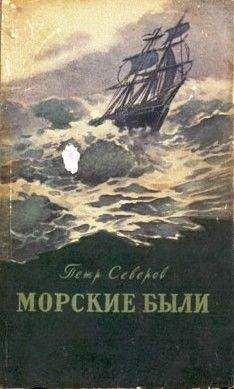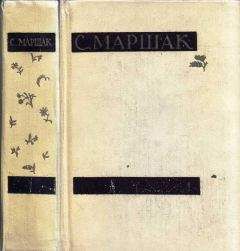Петр Северов - Сочинения в двух томах. Том первый
Все же положение казалось Трифонову очень щекотливым. Еще совсем недавно здесь развевались красные флаги. Сотня казаков металась по шахтерскому поселку. Вели арестованных… Кричали бабы… Тяжелый булыжник угодил исправнику в бедро… А теперь, когда все притихло, будто после пожара, — появляется ученый человек и проводит какие-то сборища этой непокорной шахтерни!
Два раза подсылал Трифонов своего человека на эти вечерние беседы. Но глуповатый, малограмотный парень из грабарей толком ничего не понял. Он доложил, что царя на этом собрании не ругали, поджечь хозяйский особняк не собирались, о недавнем восстании никто ни слова. О чем же могли они спорить до двенадцати ночи? Неужели о каких-то камнях? А зачем простому шахтеру эти камни? Нет, не того выбрал Трифонов осведомителя, и поднесло же ему такого простака! В сердцах он выгнал этого увальня из кабинета и, так как тот опять проявил непонимание, сопроводил увесистым пинком.
Впрочем, у исправника в ту же минуту возникла смелая идея: он сам услышит «беседы» Лагутина, — да, с помощью вот этого увальня!
— Погоди… Ты это куда же? — спросил он грабаря тоном, словно между ними ничего особенного не произошло.
— Я лучше пойду себе, — прогудел хмурый детина. — Так-то оно лучше…
— Э, братец, ты военного обращения не понимаешь, — усмехнулся исправник. — Неженка ты, братец, — я ведь пошутил!..
Они возвратились в кабинет, и, предварительно плотно прикрыв двери, Трифонов сказал таинственно:
— Государственная тайна! Понял?.. Нарочно я — твой приятель, тоже из грабарей. Ну, бороду, парик — мы это мигом приделаем… Вечером ты отведешь меня к ученому.
Тупица грабарь ушел, а Трифонов скорбно задумался о последних месяцах своей жизни, полной опасностей, непокоя и всяческих сует. Исправник — высшая полицейская власть в уезде, должность, утвержденная еще Екатериной Второй… Власть исправника в уезде — непререкаема и единолична. Гроза становых приставов, он мог бы выезжать в такую глухомань, как Лисичий Байрак, только для обозрения. И лишь наблюдать, как приводятся в повиновение ослушные, воры, разбойники, военные дезертиры, беглые. Трифонов знал наизусть параграф о своем попечительстве в отношении крестьян: «…Вразумлять сельських обывателей насчет их обязанностей и польз и поощрять их к трудолюбию, указывая им выгоды распространения и усовершенствования земледелия, рукоделий и торговой промышленности, особливо же — сохранения добрых нравов и порядка…» Директор уездного отделения попечительного о тюрьмах комитета, он одновременно имел право заключать в тюрьму любого, кто мог показаться ему опасным или ненадежным, — его административно-карательная власть распространялась не только на неплательщиков податей, на полевых и лесных сторожей, но и на лиц волостного и сельского управлений.
Однако многое переменилось с клятого 1905 года. Где эти «добрые нравы» мужиков, которые он, исправник, должен был охранять и поддерживать? Горели усадьбы помещиков, и он не поспевал от одного пожара к другому. Не одиночки-воры и разбойники унесли покой исправника на долгие месяцы — тысячи шахтеров взбунтовались против извечного правопорядка. Сам губернатор приказал Трифонову постоянно сидеть на шахтах, наблюдать за точным производством дознаний, карать непокорных, огнем выжигать их осиные гнезда.
Трифонов горько морщился: ему, губернатору, там, в Екатеринославе, безопасно. Его охраняют десятки агентов. А здесь, на шахтах, в Трифонова уже дважды стреляли. Когда он проходил под эстакадой, с вагонетки «случайно» сорвался камень, и, не отпрыгни исправник в сторону, лежать бы ему в сосновой постели, укрытому землей. Что из того, что ему увеличили жалованье? В этой дыре хозяйчики так взвинтили цены, что приходилось диву даваться: как только люди могли существовать?
Иногда он задумывался: не подать ли в отставку, сославшись, скажем, на какую-нибудь болезнь? Но Донбасс был уже замирен, — многих шахтерских жизней стоило это затишье; полиции и казакам оно тоже не даром далось. В губернии не могли не вспомнить, что Трифонов все время оставался на опасном посту. Его должны были отметить, если… Да, если губернаторские подхалимы не сочинят чего-нибудь и не подведут под милостивую руку кого-нибудь из своих.
Единственное, что оставалось Трифонову — и он был в этом убежден — блеснуть раскрытием хитроумного заговора против власти. Быть может, сама судьба послала ему инженера Лагутина? Если Лагутин окажется тайным революционным деятелем, и Трифонову удастся схватить его за руку, тогда ему, исправнику, не придется сожалеть о долгих месяцах, проведенных на этих задворках.
В тот же вечер в сопровождении грабаря он вошел в мазанку Калюжного, где уже собралось человек десять гостей. Некоторые из них сидели на доске, положенной на два табурета, другие — просто на земляном полу. На кровати перед тумбочкой, на которой тускло горела керосинка, обложенный подушками и укутанный одеялом, сидел Лагутин. Лицо его было бледно; проседь в каштановой вьющейся бороде серебрилась в свете лампы. Была она заметна и в длинных волосах.
Небрежно, словно ветром отброшенные волосы открывали высокий лоб; прямой, сосредоточенный взгляд и упрямо сжатые губы выдавали сильную волю.
— Мы тоже послушать, если можно, — несмело выговорил спутник Трифонова, — Вот, я и приятеля привел. Интересуется…
— Милости просим, — сказал Лагутин, разглаживая ладонью на тумбочке какую-то бумагу. Трифонов впился глазами: «Неужели прокламация?» Впрочем, он тут же одернул себя: «Терпение. Может, небезопасно».
— Садитесь на чем стоите, — весело молвил хозяин. — Табуреток у меня ровным счетом две…
Исправник примостился в дальнем, темном уголке; с жадностью он осматривал присутствовавших, обнюхивал этот воздух, пахнущий теплым хлебом и совсем не пахнущий табачным дымом, — как видно, в присутствии ученого никто из шахтеров не курил. Трифонову доводилось читать книжки о знаменитых сыщиках, и теперь он представлял себя бесстрашным детективом вроде Ника Картера или Ната Пинкертона. Как он еще порасскажет об этом в кругу знакомых, за вистом, за пулькой, за рюмкой коньяка! А что скажет теперь господин Шмаев? Он ведь жаловался на бездеятельность Трифонова!
Ему показалось странным, что все молчали. У Калюжного были пристальные, колючие глаза; они находили гостя и здесь, в полутемном уголке, и словно бы смеялись.
Исправник уткнулся фальшивой бородой в колени и замер в смутном, тоскливом ожидании чего-то непоправимого. Однако ничего страшного не произошло. Разгладив перед собой лист бумаги, Лагутин продолжал беседу, которую, видимо, вел до прихода Трифонова.
— Передо мною только малая частица Донбасса; в прошлом — Оленьи горы, потом — Лисичий Байрак. Я изучаю этот край с 1897 года и не перестаю удивляться его неисчислимому богатству. В Донбассе я нашел свыше двухсот пластов угля… Вы слышите? Свыше двухсот!..
Шахтеры удивленно загудели, а он поправил прическу, тряхнул головой и радостно улыбнулся.
— Надеюсь, это еще не все…
Кто-то спросил деловито:
— Как же вы сосчитали их, Леонид Иваныч? Или наука сквозь землю глядит?
— О, это хорошее выражение! — подхватил Лагутин. — Именно сквозь землю. Но земля не так-то охотно открывает свои секреты. Она только приоткрывает их в долинах, в оврагах, по берегам рек… С уверенностью скажу вам, что нет в Донбассе ни одной балки, долины, рудника, где бы я не побывал. В общем, это десятки тысяч километров! Но я очень редко пользовался лошадьми. Пешком — оно и надежней, и привычней…
Трифонов подумал не без удивления: и зачем им, шахтерам, все это знать? Но удивительное в том и заключалось, что все они с интересом слушали геолога и задавали такие вопросы, которых он, Трифонов, не смог бы придумать. Маленький лохматый мужичок спросил:
— А не вышло бы тут ошибки? Пласт, к примеру, полого лежит, а потом на дыбки становится. И с чего бы ему скакать? Не могло такого случиться, что один и тот же вы за два пласта учли?.
— Умный вопрос, дяденька, — живо откликнулся Лагутин. — Только ошибку мы не допустим. Сами камни рассказывают нам историю Донбасса с незапамятных времен. Знаем мы, какой океанский залив здесь был, и как поднимались горы, и как ломались, разрывались, сплющивались угольные пласты… По сланцам, песчаникам, известнякам мы, будто по книге, историю каждого пласта прочитали и уверенно говорим теперь народу: вот он, бесценный клад, бери его, труженик, на счастье…
Трифонов насторожился и, неожиданно для самого себя, спросил:
— А земля-то хозяйская? Как же так — бери?..
— Земля принадлежит народу, — спокойно сказал Лагутин.
— А хозяева?..
Все настороженно притихли; было слышно, как в лампе потрескивает фитиль. В этой тишине Трифонов расслышал, будто кто-то назвал его фамилию. Впрочем, возможно, сказано было «торф»?..