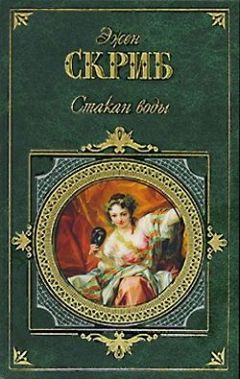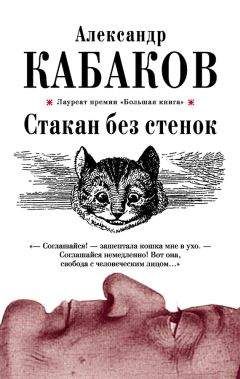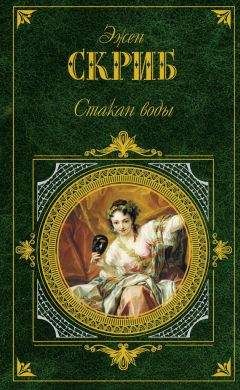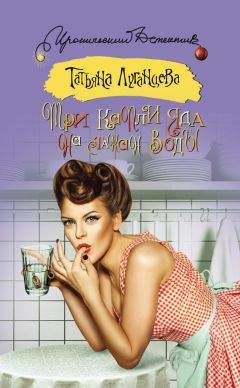Евгений Суворов - Соседи
В первый миг, когда бухгалтер попросил у Ивана денег, Иван так и хотел сделать — переступить порог, закрыть за собой двери, как будто ничего не слышал. Не в первый же раз приходилось притворяться, что не слышал или не видел, и без объяснения потом как-то легче всем было, вроде как ничего ни плохого, ни хорошего не было, и снова все шло своим чередом, пока что-нибудь не случится. И вот, кажется, случилось!
Иван сам был виноват, и даже не виноват, а как будто все эти дни упорно шел навстречу чему-то такому, о чем вот сейчас сказал главный бухгалтер.
— Куда тебе столько денег? Это, сам знаешь, не сто рублей и не полтораста!
— На Дом культуры не хватает.
— А ты сказал — тебе.
— Это одно и то же.
Иван не поверил:
— Разве колхоз и ты — одно и то же?
— Я себя от колхоза не отделяю, — ответил Михаил Александрович.
— Большая разница, — сказал Иван, не зная, что ему сделать: разговаривать с Михаилом Александровичем, стоя у дверей, или вернуться и сесть.
— Никакой разницы, — Михаил Александрович проговорил эти слова как что-то давным-давно решенное. — Я вот здесь сижу с утра до вечера и не помню, бываю дома или нет.
— Точь-в-точь как у меня! — сказал Иван. — Вчера я в Шангине ночевал и сегодня не знаю, доберусь домой или заночую где-нибудь.
Все засмеялись, Иван — тоже, как будто нашли что-то общее, одинаково для всех интересное и очень важное, и это «общее, интересное и важное» было вовсе не деньги, а что-то другое.
Иван вышел из бухгалтерии и, даже не взглянув на кабинет председателя, выбрался из душного помещения на улицу, пытаясь сообразить, что же произошло с ним и как ему быть дальше. Бухгалтеру Иван не очень-то поверил: сначала взаймы, а потом не отдадут, и закон будет на их стороне. Нет, «взаймы» Ивана не устраивало… Так надо отдать! Подарить! Он хотел вернуться и сказать Михаилу Александровичу, что согласен, но тут же подумал:
«Не успели попросить, Иван — готово: на, возьми! Надо, самое малое, неделю подождать, чтоб не наспех, не как попало… А то ведь что получается: десять тысяч отдаешь как десятку! Им такой и счет будет!»
5
Получалось только, что будто бы эту мысль подсказал бухгалтер колхоза. Но ведь хоть и подскажет кто-то, и ничего не будет, если сам не захочешь, если сам не додумаешься! Это Иван подсказал бухгалтеру! А что еще Михаилу Александровичу оставалось делать, если Иван маячил у него перед глазами? Это бухгалтер воспользовался Ивановой мыслью, которая у Ивана была недалеко спрятана. Бухгалтер пошутил, а Иван все воспринял на серьезе, потому что это нужно было Ивану, а не бухгалтеру…
Все, что видел Иван перед собой, — бабагаевские дома, просыхающая на взгорках дорога, черно-зеленые ели за мелким и грязным прудом, в котором среди льдин и белого снега плавали озябшие утки и гуси, забуксовавшая машина на Полыновке, под колеса которой ученики начальной школы готовы были, кажется, бросать шапки и портфели, только бы машина выбралась на дорогу, прошедший навстречу румянощекий старик Овсянников, никак не бросавший работу на мельнице, хотя ему было давно за восемьдесят, — все это и все, что видел он вокруг, осветилось вдруг по-новому, сделалось праздничным. В необычном Ивановом настроении было, конечно, виновато и апрельское солнце, набравшее под вечер силу и старавшееся растопить последние льдины в деревне и снег, лежавший огромными клоками на полях и в лесу.
На Татарске Иван только сегодня услышал, как позванивали под снегом ручейки, пробивая себе дорогу в темноте, чтобы потом, набрав силу, удивить мир, вырвавшись наверх неожиданно, как будто за день или за час. Иван около Татарских полей одно такое место раскапывал сапогом до тех пор, пока не увидел, как темная вода хлюпнула под сапогом, как будто довольная, что Иван облегчает ей работу.
Откуда столько солнца в Бабагае: хоть расстегивайся и снимай шапку! Чем больше деревня, тем в ней теплей, что ли?.. Тихий, ласковый ветерок съедает снег, заставляет ручьи бежать скорее, делать причудливые петли, переговариваться десятками и сотнями радостных голосов.
Еще таких день-два, и весна ударит на Татарске во всю силу. По вечерам и ночью, выходя на крыльцо, Иван будет слушать, как ревет на всю тайгу весенняя вода.
Шагалось легко, как будто Иван сделался лет на десять или на двадцать моложе. Что-то похожее бывало с ним, когда он был совсем молод, когда ему казалось, что никуда не надо торопиться, что вся жизнь впереди и что конца ей не будет. И сейчас было такое чувство, будто Иванова жизнь только начинается, — как будто каждая тысяча, которую он собрался подарить колхозу, на глазах превращалась в год или в два, самое малое. Такая мысль Ивану понравилась, и он удивился, что ни разу не думал об этом раньше. А если все деньги, лежавшие у Ивана на книжке, перевести на годы, то получалось, что в запасе у Ивана целая жизнь и что ему сейчас не шестьдесят четыре, а лет восемнадцать или того меньше.
Перед Шангиной догнала Ивана машина. Пока он садился в кабину, ему тоже хорошо думалось. Шофер проверил дверцу, и машина пошла скорее, оставляя позади березовый лесок с двумя огромными соснами, чудом уцелевшими на краю поля. Сосны стояли, наклонившись в одну сторону, как будто разглядывали внизу хоровод березок, особенно веселый летом, когда березки оденутся и зашумят листьями. Иван сколько раз отдыхал под этими соснами! Ему стало жалко, что жить березовому лесу и двум соснам осталось мало. Покажется кому-нибудь, что поле в этом месте неровное, и — прощайте, молоденькие березки и старые сосны!
Шофер терпеливо дождался, когда Иван выберется из кабинки, развернулся перед мостом и чуть-чуть не задел Ивана кузовом. Около самого лица промелькнул обшарпанный борт, дохнувший стылой краской и железом. Иван едва успел отскочить в снег.
На шофера Иван не обиделся — стоял на обочине и думал совсем о другом: от моста начиналась дорога, которую он знал в мельчайших подробностях и так привык к ней, что видел ее даже во сне, и не мог иногда понять — спит он или наяву идет по дороге…
Иван не стал оглядываться на машину, с яростным завыванием взбиравшуюся по проулку в деревню, так же, как не стал оглядываться на Шангину, потому что знал: стоит пооглядываться, что-нибудь или кого-нибудь вспомнить, как покажется, что надо вернуться. Долго смотреть на Шангину, — значит, остаться в ней ночевать!
Пройдешь первый поворот дороги и не захочешь возвращаться, и только с необъяснимым чувством тревоги и радости будешь слышать, как отдаляется лай собак, без которого деревню невозможно представить. Как бы громко ни гудели трактора, будешь все время прислушиваться, не донесется ли еще лай собак, и покажется он в это время лучшей музыкой, которую ты когда-нибудь слышал.
Прозвенела среди ветвей тонкая сосулька. Дрогнувшая ветка уронила ком снега — мелкая искрящаяся изморозь сыплется и сыплется с дерева… Возле Татарска самая настоящая зима! Еще день-другой вечером или рано утром легкий морозец скует тонким ледком растаявшие лужи, ущипнет, развеселившись, за щеку или за нос, а потом и на это не хватит силы — он только разрумянит их, чтобы ты не сердился на мороз, помнил о нем и ждал его в жаркий летний день так же, как ждешь зимой лета!
Солнце спряталось за Белопадский бугор, и сразу же стало холоднее, длинные голубоватые тени от деревьев легли на снегу. Кажется, что скоро стемнеет, но солнце еще выберется из-за бугра и начнет светить прямо в глаза, когда Иван будет подходить к своему дому. На Татарской поляне и на Широком болоте, все еще укутанном глубоким снегом, на короткое время снова сделается теплее. Потом, как будто обессилев, солнце упадет в дремучий лес, перекрасит Саяны, скатится по ним в бездну и появится утром со стороны Шангины.
Иван остановился на Татарском бугре, в лучах солнца, и залюбовался своим домом. Поскорее отогнал мысль, которая в последнее время все чаще закрадывалась в сердце: не вечной же будет заимка? Увидел, как Марья носит вязанками сено от зарода к сараю. Согнувшись в три погибели, донесла вязанку до места, бросила, увидела Ивана, стоит, ждет. Иван бы сам перенес сено к сараю, сделал бы это не сегодня, а завтра, куда торопиться. Конечно, воды, дров наносила, картошку варить поставила… Дымок из трубы идет, значит, все сделано, и Марья принялась за Иванову работу. Ему только отдыхать осталось, дожидаться, когда картошка сварится.
Сегодня он все время будет чувствовать на себе ее укоряющий взгляд. Больше всего он считает себя виноватым, когда уходит к людям. Марья тогда долго не хочет с ним разговаривать.
Она и не помнит, когда последний раз была в Шангине. Лет двенадцать прошло, не меньше, когда бабы силой забрали ее с заимки в родительский день или в троицу, а Ивана заставили сидеть дома. Марья кое-как вырвалась от людей и прибежала вечером на заимку. Чудно ей тогда показалось, и она была рада не рада, что не слышит больше ни песен, ни шума, ни крика…