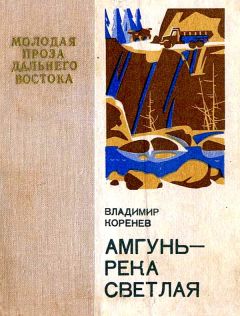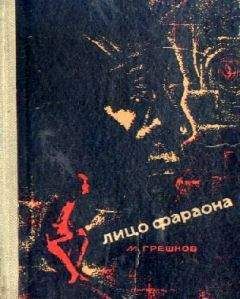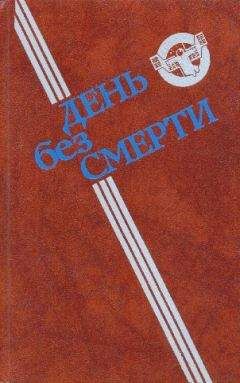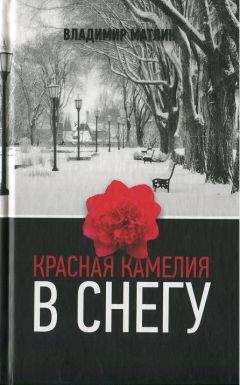Владимир Вещунов - Дикий селезень. Сиротская зима (повести)
— Молодой человек, — укоризненно погрозила пальцем старуха, — молодой человек, не могли бы вы посмотреть за домом Пупсика? — Она строго повела бровью, точно определила меру наказания за проступок и, молодясь, встряхнула головой так, что круглая шляпка с облезлым пучком перышек подскочила. — Где-то носится, бесенок. Как бы не заблудился, дуралей. Пуп-си-ик! Пупонь-ка-а!
Михаилу было не до Пупсика, и он хотел уже лететь на четвертый этаж, пока люди из бывшей шурматовской квартиры не легли спать, но не мог так грубо, без всяких объяснений отдавать старой женщине и задержался, а потом подумал: «Раз старуха из этого подъезда, то она поди знает про пятьдесят девятую».
— Вы, случайно, не знаете, кто проживает в пятьдесят девятой квартире?
— Как кто? Мы. То есть я с тетушками. Я им родная племянница и ухаживаю за ними и за Пупсиком. Им режим необходим. Это сегодня я их поздно уложила. Тетушки…
— А те, кто до вас жил, — перебил ее Михаил, — Шурматовы, они где?
— А-а, Шурматовы… Сами родители, стало быть, куда-то на юг уехали. А Ирочка, дочь их, в пединституте учится. Она по болезни брала академический отпуск.
— Да вы что! Ирина в городе?! — вскричал Михаил и вцепился в мокрую от снежной пыли муфту, куда старуха спрятала руки с ошейником для собаки. — Не может быть! А где она? В общежитии?
— Ирочка и в общежитие готова была пойти: мать не хотела, чтобы она одна оставалась. Ой как не хотела. Я вот тоже Ирочку не одобряю. Юг, такие заботливые родители, а она на своем настояла. С характером девушка. Хочу, говорит, закончить институт. Как будто перевестись нельзя. И что ее здесь держит! Не понимаю.
— Где она?
— Мать есть мать. Взамен этой квартиры выхлопотала Ирочке однокомнатную. Знаете, где «Радиотовары»? В том здании. Квартиру не скажу, а вот окна навстречу трамваю смотрят. На пятом этаже. Рядом с ними еще плакат госстраха: «Надежно. Выгодно. Удобно». А вообще-то уже поздно, молодой человек. Не время к одиноким девушкам в гости ходить.
— Да ведь Новый год? — Михаил чмокнул старуху в жесткую щеку. — С Новым годом вас! С новым счастьем!
Окно с госстраховским плакатом сияло по-дневному: знакомые, родные синие шторы.
Все в Михаиле дрогнуло, опустилось и ушло, как вода в песок. Ничего в нем не осталось. Гулко стучало в висках, и стук этот едва отдавался в слабом сердце, таком слабом, что, казалось, его вовсе не было.
Михаил поднимался тяжело, опираясь одной рукой о шершавую исписанную, исчирканную стену, другой о перила с покатым неглубоким желобком. Только теперь, после безудержного гона, увиделась ему мать, сиротливо ждущая его — перед тусклым экраном телевизора. Сердце его сжалось, он задыхался, широко открытым ртом хватал воздух и на каждом этаже присаживался на завитке перил. «Спокойней, спокойней, Миха. Рано еще совеститься. Может, у Иры уже кто-нибудь есть — студенческая дружба, любовь? Может, вообще не нужен я ей — выдумщик врач?»
Михаил не задавал себе вопроса: «А как же мать, если ни то, ни другое?..» — он бы не смог на него ответить.
Михаил твердо встал перед дверью и постучал.
— Кто там? — услышал, ощутил ее теплый голос.
— Я, — сказал, или ему показалось, что он сказал.
Клацнула защелка. Пахнуло теплом, и ослепило светом.
— Я давно жду тебя, — сказала она.
Часть вторая
Дорога
Через два дня на детских саночках Михаил перевез к Ирине магнитофон и радиолу. Остальное было на нем.
Анна Федоровна осталась одна. Каждый вечер после работы Михаил забегал к ней, спрашивал, не нужно ли чего купить, но у нее всегда все было. Она лишь просила всякий раз:
— Завтра-то не забудь, забеги хоть на минутку. А в воскресенье с Ирой приходите. Я состряпаю чего-нибудь, да, может, Таська с Иваном заглянут.
Ирине было некогда: сдавала зимнюю сессию и, сдав очередной экзамен или зачет, отсыпалась до позднего утра, как путник, изнуренный долгой и трудной дорогой. Во сне она бессвязно бормотала, выкрикивала, отворачивалась от Михаила к стене, словно искала у нее, а не у него защиты. Страдала ли Ирина, переживала, беспокоилась ли — все отражалось на ее изменчивом лице. И скоро Михаил научился различать по выражению ее лица, по обрывкам слов, фраз Ирины сны. Чаще всего ей виделась война. И тогда он мучился вместе с нею. Ласково нашептывая, он гладил ее, легонько похлопывал — успокаивал, как успокаивает мать заболевшего ребенка. Он поворачивал Ирину к себе, крепко прижимая ее, точно боясь, что она вместе со своим мучительным сном окажется за стеной. И силился представить ее мрачные видения, как бы пытаясь войти в них, чтобы быть вместе с нею.
В сессионные дни Михаил с Ириной вместе почти и не были. Утром, когда он вставал на работу, а подниматься ему приходилось; раным-рано, Ирина уже сидела на кухне, обложившись конспектами и учебниками. Стараясь не мешать ей, Михаил бесшумно одевался и крался к двери, чтобы выскользнуть незамеченным. Но всякий раз возле самой двери Ирина настигала его и силком усаживала пить чай. Он к завтракам не привык: с утра у него не было аппетита, но этот чай и заботы жены радовали его и наполняли ощущением новой жизни. И вечером, когда Михаил возвращался от матери, Ирина, заслышав его летящие шаги, распахивала дверь и нетерпеливо выходила на лестничную площадку, в простеньком цветочковом халатике, такая домашняя, ждущая, родная. Однако вечера тянулись для Михаила мучительно долго. Жена на кухне как кассирша за стеклянной перегородкой — не подступись. Он места себе не находил. Сзади подкрадется, обнимет ее, а она сбросит его руки и даже не посмотрит. То Михаил примется читать, но чтение на ум не шло. То начнет с магнитофоном возиться, то встанет у кухонной застекленной двери и смотрит, смотрит на свою Ирину, чтобы она оглянулась на его взгляд, улыбнулась, смягчилась душой и хоть бы минутку побыла с ним.
Зато сколько радости было, когда Ирина сдавала экзамен. Тогда она обязательно покупала торт и за чаем без умолку рассказывала, как трусила, какой ей достался билет и как все хорошо обошлось. Она была так простодушна и мила в это время, что Михаил затаив дыхание слушал ее, смотрел на нее, все еще не веря своему счастью.
2Ирина сидела над учебниками, а Михаил, стоя перед холодным стеклом балконной двери, смотрел сквозь ночь на шиферную крышу родного дома, где одиноко коротала время мать. Что делает она сейчас? Смотрит телевизор или сидит на кровати и, уставившись в одну точку, думает о нем?..
Всякий раз, когда Михаил живо представлял старую и родную комнату, наполовину затененную абажуром, и мать, мнущую свою больную руку здоровой рукой, его всего точно дергало током, как будто материнские думы о нем обладали какой-то энергией, и энергия эта тревожила в нем совесть.
Ирина так ни разу и не попроведала свекровку, ссылаясь на экзамены, и в редких разговорах о ней называла ее то Анной Федоровной, то тетей Нюрой, а то и вовсе бабой Нюрой. И это после того, как Михаил написал ее родителям письмо, в котором называл их папой и мамой, просил руки их дочери и благодарил за то, что у них Ирочка такая милая и заботливая. Конечно, здраво поразмыслить, ну какие Шурматовы ему папа и мама. Чужие люди. Так же, как и для Ирины его мать. И навеличивать стариков по имени-отчеству — самое то. Однако Шурматовы — родители любимой жены, самого родного и близкого человека, стало быть, они и Михаилу родители, и с него не убудет, если он станет звать их папой и мамой. Ему это не трудно, а старикам приятно. Взять его мать, так она и вовсе как ребенок. Все ждет, когда Ирочка управится с экзаменами и навестит ее и даже не сомневается, что та назовет ее мамой. Уж кто-кто, а Ирочка ее уважит: вместе бедовали в больнице и после до кой поры связи не теряли. Да и сам Михаил остолбенел, услышав от жены «бабу Нюру». Уж от Ирины-то он никак не ожидал такого бессердечия. Неужто так трудно пересилить себя и порадовать старую, больную женщину? А ведь совсем недавно Ирина находила для нее добрые слова… Похоже, она до сих пор не может представить себя в положении невестки. Видно, мать для нее все еще остается тетей Нюрой. Лучше бы они не знали друг друга прежде. Тогда не надо было бы перестраиваться на новый лад, приспосабливать свои чувства. Ирина барьер преодолеть не может, фальшивить не умеет — вот и проблема. Хотя стоило ей чуть-чуть напрячь душу, не полениться — и все было бы по-хорошему. Неужели она об этом не думала, не готовилась? Да ведь и судить-то ее строго нельзя: ей небось и самой, несладко…
Когда Михаил предложил сыграть свадьбу, Ирина возразила:
— Нет, нет, нескромно это. Ты же, Мишуня, сам не переносишь суеты. Мы с тобой по-простому. В загсе Люська секретарит, своя девка, мы с ней за одной партой три года сидели. Она распишет нас без всякой помпы. Да и не на что нам представление устраивать. Мои еще опомниться не могут от твоего письма. Твоя мать сама от нас помощи ждет. Так что разумнее всего сделать так, как я предлагаю. По-скромному. Ну, если к бабе Нюре с тортиком зайдем из загса, посидим. Как ты на это смотришь?