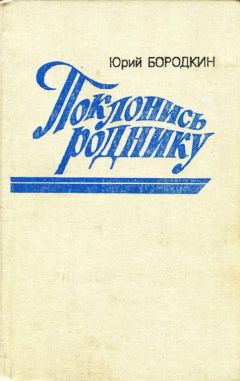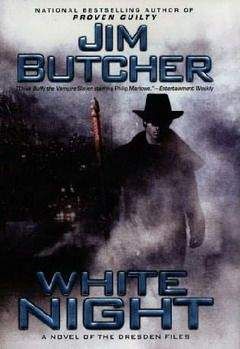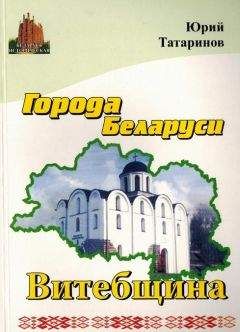Юрий Бородкин - Кологривский волок
Игнат с Колькой заиграли «походную», чтобы перебить жалостливых старух, гаркнули в два голоса:
Во солдатушки, робятушки,
Дорога широка.
Погуляйте, девки-матушки,
Годов до сорока.
На верхотинке у росстани снова затеяли пляску. Колька устал таскать хромку, сел на камень. Все старался подыграть Игнату, сбивался: где поспеть за его быстрыми пальцами! У того гармонь действительно поет в руках, мехи ходят волнами, пересыпаются крошевом цветов.
Пора идти. Обнял сестренку и братишку, успокоил мать. С Танькой попрощался, как со всеми, только подольше держал руку. После покаялся, надо было поцеловать принародно: чего теперь таиться? Зашагал, оглядываясь и помахивая кепкой, и ему махали. Танька забралась на камень, белый платок ее трепетал высоко над головами.
От леса Серега еще раз окинул взглядом клеверище, уставленное бурыми скирдами, макушки шумилинских берез, торчавшие из-за взгорка, пойму Песомы, обласканные солнцем увалы, крапленные ржавыми пятнами осинников. Все это он принимал в себя как последнее причастие к отцовской земле, с которой впервые расставался надолго.
Книга вторая
Часть первая
1
Морозным декабрьским днем сорок девятого года по центральной улице Абросимова, которую до сих пор называют посадом, шагал высокий стройный матрос с чемоданчиком в руке. Пуговицы на черной шинели сверкали серебром, пряжка ремня была надраена до идеального блеска, широченные клеши, прикрывавшие ботинки, подметали снег — все, как положено, хотя демобилизовался.
Прохожие, особенно девчонки, с интересом поглядывали на него, даже приостанавливались и оборачивались, потому что флотский человек в здешних местах — редкость. Эти матросские клеши, ленточки бескозырки с золотистыми якорями и гордая надпись по ее околышу «Тихоокеанский флот» заставляли волноваться девичьи сердца. Морячок — это не какая-то там пехота.
Ему хотелось встретить кого-нибудь из своих знакомых — не попадались на глаза. За время службы райцентр нисколько не изменился: дощатые тротуары вдоль бывших торговых рядов, деревянные домики, выглядывавшие из заборов только своими фасадами, кинотеатр, по-прежнему находившийся в церкви, с которой сняли купола. Вот желтое двухэтажное здание военкомата, где призывался в армию, вот школьное общежитие, в котором живет братишка Ленька. В девятом классе учится. Надо же!
Распахнул дверь в кухню, заменявшую прихожую, — Ленька чистит картошку, обед себе готовит. Эх, как подпрыгнул от радости! Бросил нож и картошину.
— Брату ха-а!
Уходил из дому, Ленька был совсем мальцом. На удивление вымахал за четыре-то года, только жидковат, остроплечий, длиннорукий, потому что нелегко дается учеба: харчи незавидные, каждую неделю приходится бегать домой за двадцать километров — что принесешь, то и поешь.
— Ну, показывай, как ты живешь? — сказал Сергей.
Ребята учили уроки, расположившись с учебниками прямо на кроватях; вскочили, как если бы появился сам директор школы. Минька Назаров и Толька Ступнев, прозванный Комариком, закадычные Ленькины друзья, подбежали к Сергею, восхищенно рассматривая матросскую форму.
— Значит, вы и здесь все вместе, как три мушкетера! — Сергей весело окинул взглядом своих шумилинских ребят.
— Ага. Мы думали-думали, куда податься после семилетки, и написали заявления сюда, в школу. Толик хотел было в ремеслуху, как Вовка Тарантин.
— Ремеслуха никуда не уйдет, надо учиться, если есть возможность. Значит, которые ваши койки?
— Вот эти три подряд, моя около окошка, — показал Ленька.
В комнате тесно стояли кровати, тумбочек не было. На одной из голых степ черной сковородой висело радио. Сергей присел на табуретку, достал из чемоданчика банку дальневосточных консервов и фонарик с динамкой — подарок брату. Ребята поочередно принялись жужжать фонариком, примеривать бескозырку.
— Эх ты, Комар, совсем утонул в бескозырке, один нос торчит! — смеялись над Толькой Ступневым. — Не годишься в моряки, тебе лучше пилотка подойдет.
— Вот это фонарик! И батареек не надо.
— Сергей, ты на крейсере служил?
— Бывал в дальних плаваниях?
— Китов видел?
Только успевай отвечать на вопросы.
Ленька выдвинул из-под кровати старый сундучок, с которым еще дед Яков хаживал в Питер на заработки. В сундучке хранился скудный провиант: четверть буханки хлеба, пачка маргарина, мешочек с крупой и бумажный кулечек с конфетами-подушечками. Теперь к этому добавилась банка лосося.
— Мы на ужин ее откроем, — сказал Ленька, — сейчас уж надо в школу собираться.
— Во вторую смену?
— Ага, с двух. Может, загнуть мне сегодня и завтра уроки? Вместе бы домой поехали, — загорелся Ленька.
— Забыл? Сегодня будет Тришка, — напомнил Минька Назаров.
— Кто такой?
— Директор наш. Ему как ни отвечай физику, все равно больше тройки не поставит, вот и прозвали Тришкой.
— Нет, уж ты давай учебу на первый план. Завтра суббота, и придешь домой, — распорядился Сергей.
В этот момент он позавидовал ребятам: пусть далеко ходить, пусть общежитие — не дом родной, пусть впроголодь, но все-таки они продолжают учиться. Самому ему уже не придется сесть за парту — еще в начале войны бросил школу, окончив всего шесть классов, потому что оказался старшим в семье. Зато Ленька с Верушкой, может быть, в люди выйдут. Сергей вспомнил про десятку, уцелевшую после дороги, подал ее брату:
— Мне уж не потребуются, пожалуй, пойду пешком, а ты завтра после уроков прибегай…
Снова прошагал по гулким деревянным тротуарам мимо чайной, возле которой терпеливо ожидали своих седоков несколько подвод и машина, груженная ящиками, наверно, сельповская. Около одной из кошевок он повстречал Катерину Назарову, сразу узнал ее, хотя стояла к нему спиной, приплясывая от холода: очень уж знакомо ладно сидел на ней коричневый полушубок.
— Здравствуй, Катя! — без прежней робости окликнул ее.
Повернулась, всплеснула руками:
— Серега, ты ли это?
— Так точно!
— Какой бравый морячок! А возмужал-то! Откуда и куда направляешься?
— Домой топаю, не подвезешь?
— С удовольствием бы. — Она кокетливо пожала плечами. — Только вот поджидаю своего Макарова: чего-то задерживается в райисполкоме.
— Так в Павлове и живете? Он в председателях?
— Да. А в Шумилино уж редко наведываюсь, теперь-то привыкла, не очень тянет.
— Я-то думал, сейчас катанем на этом выездном с ветерком до самого дому.
Лицо Катерины, раскрасневшееся, с налетом инея на черных бровях, сохранило девичью свежесть. Бывало, он робел перед ней, теперь же мог непринужденно разговаривать и без смущения смотреть в эти лукавые глаза, но с верхнего конца посада приближался бывший уполномоченный райкома, нынешний муж Катерины, который в конце войны увез из Шумилина такую красоту.
— Привет передавай нашим, — сказала она, давая понять, чтобы он не задерживался.
Нет, не сбила его с толку краткая встреча с Катериной, и все же ворохнулось в сердце давнее неутоленное чувство, как будто летним солнышком погрело, вспомнился тот сенокос за Песомой, когда они остались вдвоем в лугах. Женишился он тогда перед ней. Конечно, глупо это было с его стороны, и ревность его к Макарову была глупой, мальчишеской.
Не стал ждать попутную оказию. Снег был еще неглубок, дорога торная, с машинной колеей. Долог был его путь к дому — от Советской Гавани почти через всю Россию; последние двадцать километров своими волоками можно пробежать пешочком, как бывало.
Он шел споро и без устали, только под ботинками повизгивало торопливой скороговоркой. В Чучмарах, самом лешевом месте, когда в лесу стало темнеть, его догнала подвода. В порожних санях, укрывшись тулупом, валялся пьяный мужик и с куражливой настойчивостью повторял нараспев:
Я могу разбогатеть,
Только стоит развернуться —
Вещи старые продать…
Сергей остановил лошадь, потряс мужика за плечо и скомандовал:
— Свистать всех наверх!
— Кто тут балует? Я вот кнутом счас дерну по шее.!
Из-под тулупа сердито выглянул Федор Тарантин, долго морщился и хлопал бесцветными, как осеннее небо, глазами, недоумевая, откуда взялся моряк. Узнал. Встрепенулся, полез целоваться.
— Серега Карпухин! Ну, скажи, будто приснился! Вот это фокус! Домой, значит, топаешь. Садись, чего встали-то? Н-но-о! Как же мы в Абросимове разминулись?