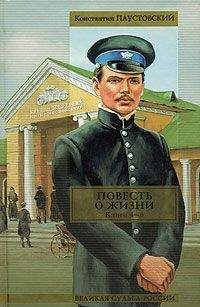Константин Паустовский - Том 4. Повесть о жизни. Книги 1-3
Марина Павловна вскочила и ушла в комнату.
— Без разговоров! — сказал офицер. — Марш за ворота!
Драгуны уехали. Марина Павловна долго плакала.
— Он же так смотрел на меня, — говорила она сквозь слезы. — Как же я не догадалась! Надо было сказать, что я его знаю и что он работал у нас.
— Где там догадаться! — сокрушался Трофим. — Хоть бы он знак какой дал. А Любомирского тот человек спалил до последней косточки. Знаменито спалил. За убиенного хлопчика.
Вскоре я уехал в Киев.
Полесье сохранилось у меня в памяти как печальная и немного загадочная страна. Она цвела лютиками и аиром, шумела ольхой и густыми ветлами, и тихий звон ее колоколов, казалось, никогда не возвестит молчаливым полещукам о кануне светлого народного праздника. Так мне думалось тогда. Но так, к счастью, не случилось.
Сон в бабушкином саду
Бабушка моя Викентия Ивановна жила в Черкассах вместе с моей тетушкой Евфросинией Григорьевной. Дед давно умер, а в то лето, когда я ездил в Полесье, умерла от порока сердца и тетушка Евфросиния Григорьевна.
Бабушка переехала в Киев к одной из своих дочерей — тете Вере, вышедшей замуж за крупного киевского дельца.
У тети Веры был свой дом на окраине города — Лукьяновке. Бабушку поселили в маленьком флигеле, в саду около этого дома.
После независимой жизни в Черкассах бабушка чувствовала себя нахлебницей в чопорном доме у тети Веры. Бабушка втихомолку плакала от этого и радовалась только тому, что живет отдельно, во флигеле, сама себе готовит и хоть в этом самостоятельна и не должна одолжаться перед богатой своей дочерью.
Бабушке было скучно одной, и она уговорила меня переехать от пани Козловской к ней во флигель. Во флигеле было четыре маленькие комнаты. В одной жила бабушка, во второй — старый виолончелист Гаттенбергер, третью комнату бабушка отвела мне, а четвертая была холодная, но называлась теплицей. Весь пол в ней был уставлен вазонами с цветами.
Когда я возвратился из Полесья в половине лета, в городе было пусто. Все разъехались на дачу. Боря уехал на практику в Екатеринослав. На Лукьяновке жили только бабушка Викентия Ивановна и Гаттенбергер.
Бабушка очень одряхлела, согнулась, былая ее строгость исчезла, но все же бабушка не изменила своих привычек. Она вставала на рассвете и тотчас открывала настежь окна. Потом она готовила на спиртовке кофе.
Выпив кофе, она выходила в сад и читала, сидя в плетеном кресле, любимые свои книги — бесконечные романы Крашевского или рассказы Короленко и Элизы Ожешко. Часто она засыпала за чтением, — седая, вся в черном, положив худые руки на подлокотники кресла.
Мотыльки садились ей на руки и на черный чепец. С деревьев гулко падали перезревшие сливы. Теплый ветер пролетал по саду, гонял по дорожкам тени от листьев.
Высоко в небе сияло над бабушкой солнце — очень чистое и жаркое солнце киевского лета. И я думал, что вот так когда-нибудь бабушка и уснет навсегда в теплоте и свежести этого сада.
Я дружил с бабушкой. Я любил ее больше, чем всех своих родных. Она мне платила тем же. Бабушка воспитала пятерых дочерей и трех сыновей, а в старости жила совершенно одна. У нее тоже, по существу, никого не было. Из этого нашего одиночества и родилась взаимная привязанность.
Бабушка вся светилась лаской и грустью. Несмотря на разницу лет, у нас было много общего. Бабушка любила стихи, книги, деревья, небо и собственные размышления. Она никогда меня ни к чему не принуждала.
Единственная ее слабость заключалась в том, что при малейшей простуде она лечила меня своим испытанным лекарством. Она называла его «спиритус».
Это было зверское лекарство. Бабушка смешивала все известные ей спирты — винный, древесный, нашатырный — и добавляла в эту смесь скипидара. Получалась багровая жидкость, едкая, как азотная кислота.
Этим «спиритусом» бабушка натирала мне грудь и спину. Она глубоко верила в его целебную силу. По флигелю распространялся щиплющий горло запах. Гаттенбергер тотчас закуривал толстую сигару. Голубоватый дым застилал его комнату приятным туманом.
Чаще всего бабушка засыпала в саду, когда в комнате Гаттенбергера начинала петь виолончель.
Гаттенбергер был красивый старик с волнистой седой бородой и серыми яростными глазами.
Он играл пьесу собственного сочинения. Она называлась «Смерть Гамлета».
Виолончель рыдала. Чередование звуков, таких гулких, будто они разносились под сводами Эльсинора, складывалось в торжественные слова:
Пусть Гамлета на катафалк несут,
Как короля, четыре капитана!
Слушая музыку, я представлял себе зал в Эльсиноре, узкие, готические лучи солнца, крик фанфар и огромные — высокие и легкие — знамена над телом Гамлета. Они склонялись до земли и шелестели. Букет Офелии ручей давно уже унес в море. Волны качали вдали от берегов венчики розмарина, троицына цвета и руты — последних свидетелей ее горькой любви. Об этом тоже пела виолончель.
Бабушка просыпалась и говорила:
— Боже мой, неужели нельзя сыграть что-нибудь веселое!
Тогда Гаттенбергер, чтобы угодить бабушке, играл любимую ее пастораль из «Пиковой дамы»: «Мой миленький дружок, любезный пастушок…»
Бабушка уставала от музыки. Она отдыхала от нее по вечерам, когда Гаттенбергер уезжал со своею виолончелью на концерты в Купеческий сад.
Я часто бывал на этих концертах. Оркестр играл в деревянной белой раковине, а слушатели сидели под открытым небом.
Большие клумбы с левкоями и табаком пахли в сумерках сильно и сладко. Перед каждым концертом их поливали.
Оркестранты были освещены яркими лампами. Слушатели сидели в темноте. Смутно белели платья женщин, шелестели деревья, иногда над головой мерцали зарницы.
Но особенно я любил пасмурные сырые вечера, когда в саду почти не было посетителей. Тогда мне казалось, что оркестр играет для меня одного и для молоденькой женщины с опущенными полями шляпы.
Я встречал эту женщину почти на всех концертах. Она внимателыю поглядывала на меня. Я украдкой следил за ней. Один только раз я встретил ее взгляд, и мне показалось, что глаза ее блеснули лукавым огнем.
Скучное киевское лето наполнилось мечтами об этой незнакомке. Оно тотчас перестало быть скучным. Оно зашумело звонкоголосыми дождями. Они лились с высокого неба, хлопотали в зелени садов. Стеклянные капли, слетая с туч, будто били по клавишам — частый звон наполнял мою комнату. Мне казалось подлинным чудом, что так может петь обыкновенная вода, льющаяся с крыши в зеленую кадку.
— Все лето слепые дожди! — говорила бабушка. — Это к урожаю.
За легким дымом этих «слепых дождей» и сиянием радуг где-то рядом жила незнакомка. Я был благодарен ей, что она появилась и сразу же изменила все вокруг.
Даже тротуары из желтого кирпича, покрытые маленькими лужами, казались мне теперь милыми и сказочными, как у Андерсена.
Между кирпичами пробивалась трава. В лужицах барахтались муравьи.
Когда на меня находила полоса выдумок, или, как говорила по-польски бабушка, полоса «маженья», мне все казалось удивительным, даже киевские тротуары.
До сих пор я не знаю, как назвать это состояние. Оно возникало от незаметных причин. В нем не было ни капли восторженности. Наоборот, оно приносило покой и отдых. Но стоило появиться самой пустой заботе — и оно исчезало.
Состояние это требовало выражения. И вот в то жаркое лето с его «слепыми дождями» я впервые начал писать.
Я скрывал это от бабушки. Я говорил ей, удивленной тем, что я часами сижу в своей комнате и пишу, что готовлюсь к гимназическим занятиям по литературе и составляю конспекты.
В те дни, когда в Купеческом саду не было концертов, я уезжал на Днепр или на окраину города, в заброшенный парк «Кинь грусть». Он принадлежал киевскому меценату Кульженко.
За две-три папиросы сторож впускал меня в этот парк — совершенно пустынный и заросший бурьяном. Пруды затянуло ряской. На деревьях орали галки. Гнилые скамейки шатались, когда я на них садился.
В парке я встречал только старого художника. Он сидел под большим полотняным зонтиком и писал этюды. Художник уже издали так сердито поглядывал на меня, что я ни разу не решился к нему подойти.
Я забирался в самую глушь, где стоял заброшенный дом, садился на ступеньки террасы и читал.
Воробьи возились у меня за спиной. Я часто отрывался от книги и смотрел в глубину парка. Дымный свет падал среди деревьев. Я ждал. Я был уверен, что именно здесь, в этом парке, встречу свою незнакомку.
Но она не приходила, и я возвращался домой самым длинным путем — на трамвае через Приорку и Подол, потом через Крещатик и Прорезную улицу.
По дороге я заходил в библиотеку Идзиковского на Крещатике. Летом там было пусто. Бледные от духоты молодые люди с мокрыми усиками — приказчики Идзиковского — меняли мне книги. Я брал книги для себя и для бабушки. При тогдашнем моем состоянии мне хотелось читать только стихи. А бабушке я приносил романы Шпильгагена и Болеслава Пруса.