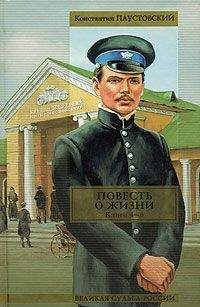Константин Паустовский - Том 4. Повесть о жизни. Книги 1-3
На следующий день мы поехали в село Погонное. Мы переправились на пароме через глубокую и холодную Брагинку. Ивовые берега шумели от ветра.
За рекой песчаная дорога пошла по опушке соснового леса. По другую сторону дороги тянулось болото. Оно терялось за горизонтом в тускловатом воздухе, светилось окнами воды, желтело островами цветов, шумело сероватой осокой.
Я никогда еще не видел таких огромных болот. Вдали от дороги среди зеленых и пышных трясин чернел покосившийся крест — там много лет назад утонул в болоте охотник.
Потом мы услышали похоронный звон, долетавший из Погонного. Линейка въехала в пустынное село с низкими хатами, крытыми гнилой соломой. Куры, вскрикивая, вылетали из-под лошадиных копыт.
Около деревянной церкви толпился народ. Через открытые двери были видны язычки свечей. Огни освещали гирлянды из бумажных роз, висевшие около икон.
Мы вошли в церковь. Толпа молча раздалась, чтобы дать нам дорогу.
В узком сосновом гробу лежал мальчик с льняными, тщательно расчесанными волосами. В сложенных на груди бескровных руках он держал высокую и тонкую свечу. Она согнулась и горела, потрескивая. Воск капал на желтые пальцы мальчика. Косматый священник в черной ризе торопливо махал кадилом и читал молитвы.
Я смотрел на мальчика. Казалось, что он старается что-то припомнить, но никак не может.
Севрюк тронул меня за руку. Я оглянулся. Он показал мне глазами в сторону от гроба. Я посмотрел. Там шеренгой стояли старые нищие.
Все они были в одинаковых коричневых свитках, с блестящими от старости деревянными посохами в руках. Седые их головы были подняты. Нищие смотрели вверх на царские врата. Там был образ седобородого бога Саваофа. Он странно походил на этих нищих. У него были такие же впалые и грозные глаза на сухом темном лице.
— Майстры! — шепотом сказал мне Севрюк.
Нищие стояли неподвижно, не крестясь и не кланяясь. Вокруг них было пусто. Позади нищих я увидел двух мальчиков-поводырей с холщовыми сумками за спиной. Один из них тихонько плакал и вытирал нос рукавом свитки. Другой стоял, опустив глаза, и усмехался.
Вздыхали женщины. Иногда с паперти доносился глухой гул мужских голосов. Тогда священник подымал голову и начинал громче читать молитву. Гул стихал.
Потом нищие сразу двинулись к гробу, молча подняли его на руки и понесли из церкви. Сзади поводыри вели слепцов.
На кладбище с поваленными крестами гроб опустили в могилу. На дно ее уже натекла вода. Священник прочел последнюю молитву, снял ризу, свернул ее и ушел, хромая, с кладбища.
Двое пожилых полещуков, поплевав на ладони, взялись за лопаты. Тогда к могиле подошел слепец с ястребиным лицом и сказал:
— Погодите, люди!
Толпа затихла. Слепец, щупая палкой землю, поклонился гробу, потом выпрямился и, глядя перед собой белыми глазами, заговорил нараспев:
Под сухою вербой коло мелкой криницы
Сел Господь отдохнуть от тяжелой дороги.
И подходят ко Господу всякие люди
И приносят ему всё, что только имеют…
Толпа придвинулась к слепцу.
Бабы — пряжу и мед, а невесты — монисто,
Старики — черный хлеб, а старухи — иконы.
А одна молодица пришла с барвинками
И поклала у ног, а сама убежала
И сховалась за клуней. А Бог усмехнулся
И спросил: «Кто же мне принесет свое сердце?
Кто мне сердце свое подарить не жалеет?»
Молодая женщина в белом платке тихо вскрикнула. Слепец замолчал, обернулся в сторону женщины и сказал:
И тогда положил ему на руки хлопчик
Свое сердце — трепещет оно, как голубка,
Глянул Бог, а то сердце пробито и кровью
Запеклось и совсем, как земля, почернело.
Почернело от слез и от вечной обиды,
Оттого, что тот хлопчик по свету бродяжил
Со слепцами и счастья не видел ни разу.
Нищий протянул перед собой руки.
Встал Господь и поднял это слабое сердце.
Встал всесильный и проклял неправду людскую.
И на землю упали пречерные тучи,
Раскололись леса от великого грома.
И раздался Господний всеслышимый голос.
Слепец вдруг радостно улыбнулся.
«Это сердце снесу я к престолу на небе,
Тот богатый подарок от рода людского,
Чтобы добрые души ему поклонялись».
Слепец замолчал, подумал и запел глухим и сильным голосом:
То сиротское сердце — богаче алмазов,
И пышнее цветков, и светлее сиянки,
Потому что отдал его хлопчик прелестный
Всемогущему Богу как дар небогатый.
Женщины в толпе вытирали глаза концами темных платков.
— Пожертвуйте, люди, — сказал слепец, — за упокой души невинно убиенного отрока Василия.
Он протянул старый картуз. В него посыпались медяки. Могилу начали забрасывать землей.
Мы медленно пошли к церкви, где нас ждали лошади. Марина Павловна ушла вперед. Всю обратную дорогу мы молчали. Только Трофим сказал:
— Тысячи лет живут люди, а до добра не докумекались. Странное дело!
После похорон поводыря в усадьбу Севрюков вселилась тревога. Вечером двери запирали на железные засовы. Каждую ночь Севрюк со студентом вставали и обходили усадьбу. Они брали с собой заряженные ружья.
Однажды ночью в лесу загорелся костер. Он горел до рассвета. Утром Трофим рассказал, что у костра ночевал неизвестный человек.
— Надо думать, гоновец, — добавил он. — Ходят кругом, как волки.
Днем после этого в усадьбу зашел босой парень в солдатских черных штанах с выгоревшим красным кантом. Сапоги висели у него за спиной. У парня было облупленное от загара лицо. Глаза его смотрели хмуро и цепко.
Парень попросил напиться. Марина Павловна вынесла ему кувшин молока и краюху хлеба. Парень жадно выпил молоко и сказал:
— Смелые господа. Не страшитесь жить в таком месте.
— Нас никто не тронет, — ответила Марина Павловна.
— Это почему? — усмехнулся парень.
— Мы никому не делаем плохого.
— Со стороны виднее, — загадочно ответил парень и ушел.
Поэтому Марина Павловна с неохотой отпустила на следующий день Севрюка в соседнее местечко, где надо было купить продукты и порох. Севрюк взял с собой меня. Мы должны были вернуться в тот же день к вечеру.
Мне понравилась эта поездка по безлюдному краю. Дорога шла среди болот, по песчаным буграм, поросшим низким сосновым лесом. Песок все время сыпался тонкими струйками с колес. Через дорогу переползали ужи.
Было знойно и потому хорошо видно, как над болотами мреет нагретый воздух.
В местечке по заросшим мхом крышам еврейских домов ходили козы. Деревянная звезда Давида была приколочена над входом в синагогу.
На площади, засыпанной трухой от сена, дремали расседланные драгунские лошади. Около них лежали на земле красные от жары драгуны. Мундиры их были расстегнуты. Драгуны лениво пели:
Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши жены?
Наши жены — пушки заряжены,
Вот где наши жены!
Драгунский офицер сидел на крылечке постоялого двора и пил мутный хлебный квас.
Мы ходили по магазинам — «склепам». В них было темно и прохладно. Голуби склевывали зерна с десятичных весов. Евреи-торговцы в черных лоснящихся картузах жаловались, что торговать нет резона, потому что весь барыш идет на угощение исправника. Они рассказали, что третьего дня Андрей Гон налетел на соседний фольварк и угнал четверку хороших лошадей.
В одном из «склепов» нас напоили чаем. Он попахивал керосином. К чаю подали розовый постный сахар.
Мы запоздали. Когда мы выехали из местечка, Севрюк начал гнать лошадей. Но лошади выбились из сил на песках и могли идти только шагом.
Тучи слепней висели над конскими крупами. Непрерывно свистели жидкие конские хвосты.
С юга заходила гроза. Болота почернели. Начал налетать ветер. Он трепал листву и нес запах воды. Мигали молнии. Земля вдалеке громыхала.
— Придется свернуть в корчму на Брагинке, — сказал Севрюк. — Там заночуем. Завозились мы в местечке.
Мы свернули на едва заметную лесную дорогу. Телегу било по корням.
Начало быстро темнеть. Лес поредел. В лицо дохнуло сыростью, и мы подъехали к черной корчме.
Она стояла на самом берегу Брагинки, под ивами. Позади корчмы берег зарос крапивой и высокими зонтичными цветами болиголова. Из этих пахучих зарослей слышался тревожный писк — там, очевидно, прятались испуганные грозой цыплята.
На кривое крылечко вышел пожилой тучный еврей — хозяин корчмы Лейзер. Он был в сапогах. Его широкие, как у цыгана, штаны были подпоясаны красным кушаком.