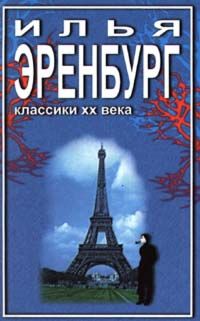Илья Эренбург - Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней
Дружески улыбаясь солнцу, отмахивалась Жанна от воспоминаний последнего года, особенно тяжелого: бегство, ночь в крестьянской телеге под соломой, теплушка — шесть дней в теплушке, какие-то осетины, хотевшие убить папу из-за одного брелока на цепочке, толчея в Ростове, тифозные вповалку на перроне, снова бегство, баржа, тонущие люди, шторм и, наконец, эти пустынные, угрюмые недели в Феодосии под рев пьяных казаков и северного ветра. Все это было. Но лучше думать, что этого не было. Лучше думать, что она уже во Франции, что это — не чудом выпавший теплый денек, а самая наизаконнейшая весна. Скоро в Париж! Жанна вслух по-детски засмеялась.
— Очень приятно в такое, с позволения сказать, собачье время встретить веселую дамочку!
Рядом с Жанной оказался рыжий плотный офицер в круглой бараньей шапке. Испуганно вскрикнула Жанна и быстро пошла дальше. Но пудовая волосатая лапа мигом пригнула ее плечо. Послышалось гадкое дыханье спирта.
— Пустите меня! Как вы смеете? Я иностранка! Француженка!
— Вот это особенно приятно. Вы себе и представить не можете, как мне надоело русское бабье! А француженка — ведь это же шик, кокотки, сплошной шато-де-флер[51].
Жанна оттолкнула весельчака, но поскользнулась и упала на склизкую землю. В то же мгновение она услышала чей-то чужой голос:
— Разрешите узнать, в чем дело, господин поручик?
Кто-то бережно помог ей приподняться. Перед ней, улыбаясь, стоял офицер. Но это был не ее обидчик. Все произошло с такой кинематографической быстротой, что Жанна от смущения, вместо того чтобы поблагодарить выросшего из-под земли спасителя, начала машинально чистить захватанное глиной платье. Незнакомец помогал ей, просто и деловито, как будто были они давними приятелями и гуляли вместе. Наконец, не вытерпев, он улыбнулся:
— Вы меня не узнаете, Жанна?
— Андрей?
Если Андрей и до этой минуты столь явно радовался неожиданной встрече, то теперь радость его должна была еще возрасти: на лице Жанны он мог без труда прочесть, кроме признательности и смущения, еще нечто другое — может быть, нежность?.. Значит, правда, она не совсем забыла его?
Пять лет тому назад, в последнее лето перед этой противной революцией, как будто нарочно сделанной, чтобы отнять у Жанны лучшие годы, на даче под Москвой познакомилась она с молоденьким студентом. Он тоже любил солнечный припек, звонкое «ррр» в стихах Гюго и приторные красные розы. А может быть, он только говорил, что любит все это, потому что на самом деле немного, смутно, скорее от возраста и нахлыни летней, неведомой еще нежности, любил эту смуглую, пугливую девочку, чужестранку-шалунью, по природе героиню, готовую в пятнадцать лет разыграть расиновскую Федру, дикарку, плакавшую тихонько от неудачно отданного поклона. Все это было давно. Если задуматься — в иной жизни, до великого переселения душ, пришедшегося на лето следующего года, когда переселялись не только души, но и тела и когда Россия заночевала, грозясь и плача, на крышах кряхтящих от натуги вагонов. Тогда он катал ее по царицынскому пруду. Кажется, раз, когда шли они в сумерках мимо дачных садиков, поблескивавших серебряными лунами шаров и дышавших левкоями, он поцеловал ее щеку. Может быть, этого и не было. Может быть, он только хотел это сделать, а нагнувшись, сказал что-то пустое и незначащее об игре в крокет. Они оба не знали, было ли это. В общем они мало думали о любви. Она входила в их жизнь наряду с любимыми книжками, крокетом и левкоями. Они были еще детьми.
Потом Жанна иногда вспоминала широкое улыбающееся лицо, на котором, точно споря с губами, печалились серые глаза. Вспоминала, когда ей становилось особенно грустно, в духоте теплушек или в передних, где разбуженные среди ночи, наспех одетые люди ожидали очередных папах. От этих воспоминаний ей делалось еще грустнее: Андрей ведь исчез, вместе с другими, посылавшими приторные розы. Значит, и его проглотила эта злая революция.
Они держали друг друга за руки. Они улыбались. Они не могли ничего сказать. Это молчание было таким полным, таким большим, что Жанна испугалась. Улыбка еще не отошла от ее губ, но глаза томились, билось сердце, подступала дурнота. Тогда, как бы желая спастись, она заговорила:
— Вы здесь? Давно? Офицер?
— Нет, Жанна, я не офицер.
Может быть, этого не следовало бы говорить. Ведь Андрей умел быть осторожным. Но есть много не совсем понятного в человеческих поступках. Увидав Жанну, он сразу стал мальчиком, да тем самым мальчиком, что когда-то хотел поцеловать щеку смуглянки и не мог. Он готов был ей все, абсолютно все рассказать. Он помнил одно: я ее встретил.
— Я не понимаю вас, Андрей. Я теперь ничего не понимаю в России. Вы не офицер? Зачем же вы в форме?
— Я здесь, чтоб подготовить восстание. Как только возьмут Перекоп, мы выступим. Вы все еще не понимаете? Но я ведь…
И Андрей спокойно, внятно произнес то слово, которое Жанна привыкла считать обидным и позорным. Как-то в Ростове папа, узнав, что в погребе найден трупик четырехлетней девочки с головой, размозженной колуном, сказал: «Это безусловно большевики»; Жанна ему поверила. Так повторяли и все папины друзья: «Разбойники, убийцы». И вот теперь Андрей говорит про себя. Бежать? Позвать на помощь? Расплакаться?
Бедная Жанна. Маленькая француженка из «Золотой библиотеки» для счастливых и послушных детей, попавшая в страну папах и теплушек, как растерянно, как умоляюще взглянула она на Андрея!
— Ну конечно же я большевик! Разве я мог бы не быть с ними?
И Андрей улыбнулся. Хорошо, честно. В этой улыбке была полная радость от того, что он подготовляет восстание, от того, что встретил славную девушку, еще, может быть, от того, что на солнце тепло, что и зимой бывает весна.
И улыбка спасла Жанну, она напомнила ей: ведь это ж Андрей! Разве злые люди могут так улыбаться? Значит — делать восстание хорошо. Значит — он прав. И Жанна на улыбку ответила хоть поздней, но успокоенной, полной ласковости улыбкой. Больше того — от сказанного он стал ей как-то ближе: теперь она посвящена в его тайну. Это было на грани между ребячьей игрой, скрываемой от ворчливых взрослых, и той темной страшной судьбой, которая как бы стала раскрываться перед ней.
Он долго рассказывал ей, как дрался с белыми на Кубани, как помогал зеленым доставать оружие и для этого недавно разыграл в Судаке офицера связи, как увлекательна и прекрасна вся эта возня в подполье, между смертью и победой, когда завтра могут быть виселица у ворот городской тюрьмы или цокот красной конницы, прорвавшей наконец перекопские плотины.
«Красные», «белые», «зеленые» — Жанна слышала эти слова. Правду сказать, — она все больше предавалась Андрею. «Готовить восстание» — это должно быть хорошо, это как теплый ветер, в одну ночь переделавший ужасный город. Ведь Феодосия же чудесная: беленькие домики, аркады, море! Странно, что она раньше этого не заметила… Революция это не одни обыски и карточки. Это, очевидно, еще многое другое. Это — Андрей, который готов за нее умереть. А за сахар ведь не умирают. Значит, это сродни тому, о чем она учила в школе, значит, это как у Гюго. «Готов умереть». Но не нужно, чтобы он умер! Он должен жить! Она его увидит еще?
Вечерело. Внизу закопошились огоньки. Кто-то, терзая гармошку, наполнял все небо бабским истошным нытьем. Прорвалось несколько выстрелов…
— Может быть, разведка… расстреливают…
Его тоже могут расстрелять! Как зерно факира, Жанна с каждой минутой росла. Впервые тревога женщины прошла в ее детское сердце.
— Вот, я радуюсь, что мы встретились, а увидимся ли еще, не знаю…
И здесь произошло второе событие этого сумасшедшего дня, столь же неожиданное и таинственное, как наставшая среди зимы весна: сама не понимая, что она говорит, откуда у нее такие слова, Жанна ответила:
— Мне кажется, что я не могу без вас, Андрей…
Сказала и испугалась. А он все улыбался, только, казалось, еще грустнее серели его глаза. Просыпалось еще несколько выстрелов. Андрей невольно, нехотя прислушался. Ночью он должен был пробраться в Отузы. Жанне он ничего не ответил. Оба молчали.
Огоньки придвинулись, стаей бросились в глаза. Это была уже окраина города.
— Дальше мне нельзя, — сказал Андрей.
Сказал и, удержав ее руку, с той отчаянной нежностью, которую дает человеку лишь предчувствие большой, может быть, непоправимой разлуки, поцеловал смугленькую ладонь.
По людной Итальянской Жанна быстро шла домой. Чувствовала: нужно думать, нужно осознать, что с ней случилось, но все оттягивала эту минуту. Вдруг, возле шумной кофейной, где толкались, промышляя фунты или лиры, кругленькие спекулянты, а меж их слипшимися животиками сновали мальчишки с папиросами и рахат-лукумом, в самой сутолоке Жанна остановилась. Ее никто не окликнул. Она могла бы идти дальше. Она остановилась от короткой, от самой простой мысли, пришедшей сразу, вместо сложного и длительного процесса обдумывания, который ей представлялся: ведь это же любовь! Папиросники продолжали верещать. Какой-то грек внимательно поглядел на Жанну, что-то сказал ей. Жанна не слыхала. Она стояла и улыбалась.