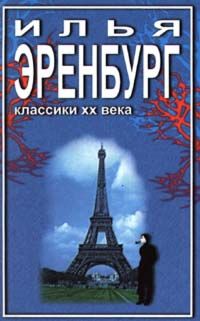Илья Эренбург - Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней
Во время войны Нейхензон, все обмозговав, сказал: «Леи». Что же — Румыния не выдала! В клубе Халыбьев причмокивал: «Леи, а по случаю леи — лей!» (Халыбьев любил каламбурить.)
Так все шло до октября. Далее благополучие сменила общеизвестная картина бедствия и запустения, а когда вместо золотых букв «Банкирская контора» на зеркале двери появился листочек из ученической тетради с полуприличным словом «ясли», действительно приличным людям, к которым, разумеется, принадлежали и друзья, пришел конец. Правда, Нейхензон пробовал в антрактах между четырьмя отсидками скупать у дам «чижики», но делал это вяло, без вдохновенья, хуже того — без толку. Выручала кое-как жена, значительно менее впечатлительная, торговавшая совершенно секретно неразбавленным спиртом.
Халыбьев сидел много спокойней, прочно, даже не без уютца. Больше года просидел он, играя с курчавым анархистом в дурачки. Во время случайных допросов друзья показали, что расстаться еще не значит забыть. Халыбьев нервно (он все «нервно» делал) объявил: Нейхензон — румын, возможно, даже румынский агент, иначе никак нельзя понять всю эту мистическую историю с леями. Нейхензон ограничился тем, что назвал Халыбьева сначала «мошенничком» (в этом «ч» сказалась вся его нежность), а потом уже по-современному «феодалом». Впрочем, следователь показания эти записать не потрудился, а, как-то спохватившись: еще такие-то существуют, спешно очистил место для других.
Так они встретились. Так облобызались. Мудрено ли, что перед просьбой Кастора Поллукс не устоял? Из-под грязного белья выкопал он две французские булки. Казалось, этим, ограничится празднество. Но, пренебрегая интимностью места, в пучину сорочек и прочего быстро нырнула рука зоркого Халыбьева и выплыла оттуда, торжествуя: бутыль спирта!
Халыбьев глотал за чашкой чашку. Нейхензон же осторожно щипал корочку булки. При этом он усиленно, в срочном порядке, думал. По насыщенности паузы Халыбьев угадывал, чем занят его друг, и поэтому он отнюдь не удивился, когда раздалось столь знакомое по конторе:
— Есть!
Он только вплотную придвинулся к философу. Светильник, издыхая, подпрыгивал и падал. В темноте раздавался шип Нейхензона. Если бы случайно приоткрыли дверь управдел или та, что из ячейки, они, наверное, решили бы: заговор, конспирация. Пожалуй, они были бы правы: во всем облике двух людей, то крякающих, то шипящих над большой бутылью, было нечто зловещее, даже преступное.
— Ты там, я здесь, вместе — армянская загадка «банкирская контора Халыбьева и Нейхензона».
— То есть как это — «ты здесь»?
— Очень просто. В ячейке.
— Ты что же, убеждения свои так быстро переменил?
— При чем тут убеждения? Кому нужны убеждения? «Быстро!» Хорошенькое «быстро!». А правительство? Ты думаешь, оно в десять лет переменилось? Ровно в десять минут! Я два года, идиот, потерял. Я там сидел, то есть внутри. Так ты думаешь, там плохо? То есть сидеть очень плохо. А если не сидеть, так даже очень хорошо. Например, ездить в автомобильчике и вежливо приговаривать: «Ну-ка, господин Нейхензон, пожалуйте внутрь!» — это же совсем другое дело! Так вот, я останусь здесь. Но конечно, может выйти и наоборот, то есть возьмет себе Деникин и придет. Так мы застрахуемся. У тебя убеждения, и вообще ты сам из себя дворянин. Тебе весь расчет ехать. А потом…
Халыбьев расхохотался. В самом тембре его смеха была аттестация мадам Нейхензон: она честная женщина, у нее спирт — это спирт.
— Здорово! Каждый сам себе Гинденбург! Стратегия! Рулетку знаешь? Это, брат, не коммуна, это рок, игра! Так вот, ты на красное, я на черное. Валяй! Вертись! Без проигрыша. Наша возьмет, всех… ты прости, что я выражаюсь, очень наболело вот здесь, словом, всех, что называется, жидов перебьем. А тебя? А тебя нет! Они визжать будут, а ты в «Ампире» кофе кушать. Контору снова откроем. Валюту скупим. Заживем. А ихняя… что ж, тогда уже тебе придется потрудиться. Ну, что? Идет? По рукам?
Халыбьев выпил еще чашку. Не замечая больше шипа Нейхензона, он уже во весь голос кричал:
— Не могу я так! Жизнь моя зря проходит! Зачем мне революция эта? В Париже теперь свет, рестораны, бабы финтят, а ты ко мне с кондитерскими изделиями лезешь. К черту! Не такой я человек! Мне деньги нужны. Шампанское! Женщины! Ты понимаешь, что такое женщины? Дорогие, чтобы с кружевцом! Я в Бутырках год, извини меня, вшей кормил! Я в душе игрок! Я ни перед чем не остановлюсь!
Светильник кончился. Зазвенела бутылка. С трудом Халыбьев приподнялся. Нейхензон нежно поддерживал его.
— Только тише, ради Бога, тише. Управдел пришел.
— А мне что! Я на все готов. Ты не знаешь, Нейхензон, какой я человек! Я женщин хочу! Я два года в ресторане не был! Я своими руками убить могу!
— Что убить? То есть как это убить? Это же нельзя! Слышишь, Халыбьев, нельзя! Если тебе человек мешает, так ты сделай, чтоб он сам повесился, чтоб записочку оставил: по закону. А убить?.. Это же страшно!
— Страшно, Нейхензон! Твоя правда. А я вот возьму и убью. Могу кобеля, а могу и человека. Сам я не знаю, что могу! Я музыки хочу! чтоб романсы мне пели! Я все могу!
И, оглушенный окончательно спиртом, он упал на мягонькие колени идиллического Поллукса.
Глава 2
БЫВАЕТ ВЕСНА И ЗИМОЙ
Жанна ушла далеко за Карантин. Кругом были только пологие, охровые холмы. Внизу море. Жанна радовалась: в этот по календарю зимний день произошло нечто невероятное, крайне важное, не отмеченное в газетах и никак не взволновавшее ее отца, столь пристально следившего за всеми мировыми событиями. Еще вчера вечером была зима, от которой захватывало дух и выступали слезы. Весь вчерашний день Жанна хандрила, мечтая об одном: врасти в расписные изразцы печки. А под утро подул теплый ветер с моря. Слуга Ней, курносый насмешник Ваня, раскрыл настежь все окна, как пес, понюхал воздух и засвистел снегирем. Несмотря на нужду, на все беды зимы в осажденном Крыму, жители Карантинной слободки, вытащив во дворы жаровни, весело варили соленую камсу или горох, мурлыча при этом нечто очень приятное и всячески ворочаясь, чтобы ни один луч солнца не пропал даром. Даже море как-то наспех переоделось: вместо бутылочного плаща провинциального трагика получилось голубенькое платьице девочки-пай. Жанна шла по мокрой глинистой дороге, рассеянно проваливаясь в лужи и умиленная и озадаченная этой, не по времени, весной.
Еще Жанна радовалась, потому что папа сказал ей утром, развернув желтую куцую газету: «Ну, теперь крышка, скоро и отсюда придется убегать». Значит, скоро Париж. Там тоже тепло. Там всегда тепло. Там кончится этот дурной сон, который называется «Россией». Затянувшийся сон: шесть лет он томит Жанну. Но и теперь она так же боится его, как в то далекое февральское утро, когда тринадцатилетней девочкой, с букетом промерзших мимоз, поднесенных ей при расставанье хохотушками-подругами, вышла она на площадь перед Брестским вокзалом[50], увидала снег, тулупы баб, городового в башлыке, кричавшего на дохлого извозчика, а увидав это, расплакалась, несмотря на все увещевания папы, бормотавшего: «Это ничего… это богатая, это очень богатая страна».
Жанна боялась России. В ее представлении сливалось в одно: дикий климат, не погода, а именно климат, как в учебнике географии, неодолимые звуки «ща» или «ы», бараньи шкуры, кавалеры, во время вальса отдававшие водкой, генерал, на морозе пальцем в лайке вытирающий лиловый нос, блины, чай ведрами, то разнузданно икающие, то по-собачьи скулящие песни. До семнадцатого года еще удавалось спрятаться. Была розовая комнатка, где на секретере жил с Жанной томик Гюго, где в вазочке, наперекор окну, седеющему от дыханья России, розы из магазина Ноева не хуже самого Гюго говорили о милой Франции; была столовая, где папа, полоща рот кирпичным бордосским, каждый вечер с ровным пафосом читал передовицы «Journal des Débats», бесконечно похожие одна на другую; были люди, знавшие на память Гюго и предпочитавшие Арбату Елисейские Поля. Потом? Потеем произошло что-то странное, всеми различно называемое. Жанна воспринимала это по-своему; ей казалось, что Россия сразу разрослась, проглотила и розовую комнатку, и «Journal des Débats», и тех изящных молодых людей, которые присылали ноевские розы. Жанна ничего не понимала. Говорили: «Революция», но Жанна в школе учила французскую историю, революция тогда казалась ей скорее увлекательной: восторженные речи, вдохновившие даже Гюго, песня марсельцев, празднества, героическая смерть какого-нибудь храброго знаменоносца, идущего против коалиции. Но разве люди в варварских папахах, приходившие в квартиру Ней, чтобы наследить, чтобы прокурить махоркой комнату Жанны, чтобы перерыть ее комод или заглянуть в детский дневник, разве какие-то дежурства в подворотне дрожащих дам из домового комитета, разве карточки, с которыми надо было зябнуть в «хвостах», разве все это походило на стихи Гюго или на картину в Лувре, изображавшие революцию?