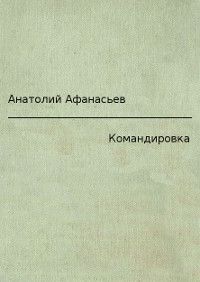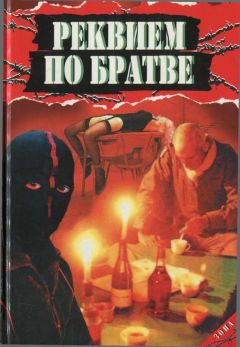Анатолий Афанасьев - Командировка
— Будешь добром поминать! — посулил он на прощание.
К гостинице я подходил счастливый и умиротворенный. В кармане позвякивали медяки. Ничего, на метро хватит.
В холле, за журнальным столиком поджидал меня Дмитрий Васильевич Прохоров, читал газету и одновременно смотрел поверх нее на входную дверь. Увидев меня, приветливо заерзал, поклонился сидя. Мыслями я уже находился в Москве, и необходимость нового разговора с Прохоровым меня разозлила. У меня был хороший, четкий план, как провести время до вечера; Прохоров в план не вписывался.
— Меня ожидаете, Дмитрий Васильевич?
— Вас, вас, — ох, это убийственное шуршание пиджака. — Как договаривались.
— Мы разве договаривались?
Невинно–скорбная физия Прохорова расплылась в благостной гримасе.
— А вы хотели удрать не повидавшись, — он захихикал. — Не годится, голубчик вы мой, не годится. А как же мое послание к Перегудову?
— Принесли?
Жестом фокусника он извлек из своего необъятного пиджака объемистый конверт. Не письмо, а целую бандероль.
— Это что же, исповедь ваша? — Я задирал его, чтобы он побыстрее ушел. Все, все. Я прощался с городом и его обитателями. Командировка закруглялась. Ни с кем мне не хотелось больше встречаться, и уж меньше всего — с этим человеком. Я не знал, каков он был прежде, в молодости, был ли талантлив или бездарен, всеведущ или наивен, но то, во что превратились его способности и его чаяния, не внушало симпатий. Он сводил счеты с миром и при этом мерзко шуршал пиджаком. Вино ли в том виновато, люди ли, коварство обстоятельств — все это теперь ничего не значило. У человека, озабоченного сведением счетов, на лбу сияет Каинова печать. И ее не заклеишь пластырем красивых фраз. Впрочем, Прохоров и не пытался. Он не хитрил, прощальный взгляд его был тревожен и едок, как пыль.
— Тут кое–какие предложения и расчеты, — пояснил он, не заметив моей колкости. — Надеюсь, это заинтересует Владлена Осиповича. Можете передать, что разрабатывать эту тему я готов на любых условиях. На любых! Так… Что еще? Да, с прибором. Здесь тоже все сказано и рассчитано. Чтобы исправить положение, потребуется не меньше четырех–пяти месяцев. Вы когда едете? Завтра?
— Сегодня.
— Я так и предполагал. Бельмо на глазу…
Он не дал мне времени ответить, поднялся, издавая звуки рассохшегося пианино, но почему–то руки мне не протянул. Уже уходя, замешкался, оглянулся, и я увидел на его лице муку, пронзившую мое сердце.
— Не заблуждайтесь, — произнес он с мертвой улыбкой. — Никто никого не предает. Никто, Виктор Андреевич. И никто никому не подставляет плечо. Это все детские представления, ложные. У вас шоры на глазах, я вам говорю. Вы их откиньте, откиньте. С шорами легче, конечно, но без них как–то просторнее.
Он уже ушел, а я все стоял около столика, не двигаясь, прижимая к груди туесок с платком и пухлый прохоровский конверт. Это что же такое, в самом деле? Два человека, совершенно разных, в течение суток уверяют меня, что я слеп. В чем слеп? Кто их тянет за язык? Допустим, они правы, каждый по–своему. Но это же неприлично, попросту неприлично говорить убогому, что он убог. А если я уже не могу прозреть? Если моя слепота окончательная и неизлечима?
Я тряхнул головой — все, все! — и побрел к себе в номер. Там пообедал остатками сыра и печеньем.
Вкусную еду запивал водой из–под крана. В ящике стола обнаружил непочатую коробку шоколадных конфет. Это пойдет на ужин. Позавтракаю в поезде. Денег хватит на стакан чаю и на калорийную булочку. Превосходные булочки иногда продают в поездах. Одну можно грызть сутки напролет.
В последний раз побрился, уложил чемодан. Мне очень хотелось хотя бы мельком проглядеть бумаги Прохорова, но я себя пересилил, сунул конверт на дно чемодана, под рубашки.
Теперь надо бы попрощаться кое с кем. Но есть ли в этом городе справочная служба?
Я набрал 09 и через несколько минут, к огромному моему удивлению, получил домашние телефоны Порецкой, Шутова и Капитанова. Обзванивал адресатов я в такой очередности: Владимир Захарович, Петя, друг, Шурочка, душа моей души. Все три прощания получились довольно однообразными. Поначалу заминка изумления и неловкости, потом шаблонные сухие пожелания доброго пути. Никто не изъявил охоты меня проводить, и никто не пригласил приезжать еще. Грустно это, грустно. Владимир Захарович учтиво поинтересовался, к каким выводам я пришел. Я коротко ему объяснил свое понимание проблемы. Просил передать мои извинения Шацкой, которую если и обидел, то неумышленно. Капитанов холодно пообещал. По тону чувствовалось, разговор со мной, а скорее — я сам, ему осточертел. Петя Шутов пробормотал что–то невнятное о прелести московских ресторанов, выдавливал слова неохотно, с отчуждением.
Я сказал ему: «Приезжай, Петя, в Москву, погуляем». Он ответил: «Приеду, приеду, в отпуск, наверное, приеду». О делах ни гу–гу. В трубку доносился детский плач, раздраженный женский голос. Я представил, попрощавшись, как он с облегчением и мрачной гримасой швырнул трубку на рычаг… Шурочку я благодарил за помощь, клялся, что она удивительная девушка, что цены ей нет. Она жеманно, незнакомым голосом ответила: «Ну да уж, ну да уж, скажете тоже». Она рассталась со мной, видимо, задолго до моего звонка.
Часа три, до самого поезда, я проваландался на пляже. Играли с Кирсановыми в подкидного дурака, купались, болтали о всякой чепухе. Сменный инженер бросал на меня завистливые взгляды, видно было, что готов поменяться со мной местами. Сказал с отвращением: «А нам еще девять дней отдыхать».
К вечеру на бирюзово–чистое небо набежали резвые угловатые тучки, и неожиданно пролился теплый, как из чайника, дождь. Все попрятались под деревья, а я остался сидеть на песке, жадно ловил губами нежные небесные капли. Громыхнуло за горизонтом. Чиркнула по сини короткая желтая молния. Шурик примчался из–под укрытия и принес мне мамин пестрый зонтик. Ему очень хотелось остаться со мной под дождем, но он не рискнул ослушаться зычного отцова окрика.
С Кирсановым мы, как и положено, обменялись домашними телефонами.
На станцию я пошел кружным путем, чтобы еще раз полюбоваться игрушечным городком. Чужим я сюда приехал и уезжаю чужим, никому не сделав добра. Никто не пригласил меня возвратиться.
Может быть, Шурочка выполнит обещание и напишет письмо. А скорее всего — не напишет. Зачем это ей? Забудет.
К поезду явился минут за десять до отправления, закинул чемодан в багажник, забрался на верхнюю полку и пролежал там до утра не слезая. Спал плохо, урывками. Всегда плохо сплю в поездах, сердце отчего–то ноет, тормоза визжат о рельсы, как кожу сдирают, долгие эти ночные остановки с гулкими голосами на платформах — все мешает, дергает, тревожит.
А некоторые, я знаю, спят в поездах как убитые…
25 июля. Вторник
— С приездом, Виктор Андреевич… Здравствуйте!
В нашем доме живет много молодых и средних лет мамаш, которые целыми днями толкутся около подъездов со своими детишками, колясками, прогуливаются вдоль дома, как по набережной. Я их всех почти знаю и со всеми здороваюсь, и, предполагаю, моя холостяцкая жизнь служит неисчерпаемой темой для обсуждения в этом своеобразном клубе. Я ловлю на себе взгляды доброжелательные, кокетливые, осуждающие, а иной раз откровенно негодующие. По этим взглядам и улыбкам легко догадаться, в каком качестве я каждый отдельный раз предстаю со стороны: несчастный одинокий человек, повеса, хитрый малый или добродетельный служащий. Сегодня все улыбки одинаково приветливы, даже Инна Сидоровна, женщина, впервые родившая в сорокалетнем возрасте, благожелательно мне кивает и машет ручкой своего пухлого бутуза, восседающего у нее на плече. Понятно, сегодня я деловой человек, вернувшийся из служебной командировки. Старые мои грехи забыты общественностью, а новых пока нет. Среди прогуливающихся мамаш выделяется колоритная фигура Герасима Петровского, высокого, безукоризненно одетого мужчины, кстати, ответственного работника Внешторга. Супруга Петровского, журналистка Элеонора, настолько эмансипированная особа, что, когда заболевает их четырехгодовалый сынишка и его забирают из детского садика, больничный всегда берет сам Герасим. Кажется, его вполне устраивает такое положение, он весел, улыбчив и в женско–детском обществе чувствует себя как рыба в воде.
— Здорово, Витек! — кричит он мне. — Как съездил?
Я подымаю вверх большой палец. Симпатичная Людочка, медсестра, со своими близнецами как бы случайно оказывается у меня на пути. У нас с ней давний невинный флирт.
— Тю–тю–тю! — Я склоняюсь над двухместной коляской и делаю близнятам общую козу рогатую. Они сопят и выпускают из ротиков совершенно одинаковые пузыри. Людочка озорно косит глазами:
— Не пора ли своих завести, Виктор Андреевич?
— Ох, пора, пора! Да не с кем… — Я многозначительно заглядываю ей в лицо. Людочка с деланным испугом оборачивается на подруг.