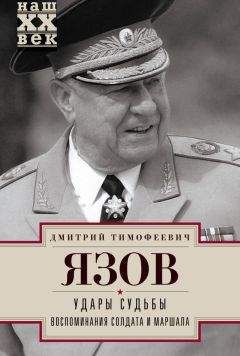Николай Горбачев - Ударная сила
Позади казармы — спортивный городок, не до конца оборудованный: один турник, двое брусьев — ни каната, ни колец не было; пока стояли врытые в землю свежеошкуренные столбы с бруском-перекладиной.
Василин нервной походкой шагал по дорожке, отпрофилированной, с бровками, но растоптанной, размешанной, стараясь попасть ботинками с галошами в натоптанные следы. Опередив генерала, Савинов уже был тут, у спортснарядов, возвышался возле той первой «коробки», певшей «По долинам и по взгорьям», и давал последние указания: рука резко рубила воздух. Он срезал путь «по целине», и теперь на сапоги его, начищенные и сиявшие глянцем голенищ, налипли жирные комья грязи, он не успел их сбить. Савинов, увидев подходившего генерала, скомандовал «Смирно». Василин вяло, в небрежении и раздражении, отмахнулся.
— К турнику! — Помолчав, добавил: — По одному, кто что умеет.
Первым вышел помначштаба, щеголеватый капитан: вскинувшись к железной трубе и подтянувшись, вывернул локоть вверх, старался выжаться, вздрагивая ногами в сапогах, но не удержался, скользнул и, повисев секунду-другую, видно, решив — ничего не выйдет, соскочил на землю. Стоял, опустив глаза. Василин молчал, словно не замечая ничего, -и Савинов, метнув взгляд на Него, сердито скомандовал:
— Встать в строй! Капитан Овчинников, к снаряду!
Угловатый, крепкоскулый Овчинников выжался, взлетел над турником и, вытянувшись в струну, с силой крутанулся на прямых руках, но явно не рассчитал: обернувшись, сорвался. На земле еле сбалансировал на ногах.
Василин быстрыми движениями расстегнул куртку с гербастыми золочеными пуговицами и, бросив ее на поручни брусьев, сверху — фуражку, оставшись в серой шелковой рубашке, подошел к турнику, носками сдернул галоши с ботинок и, рывком подкинувшись к трубе, махнул дважды сильно ногами, взлетел над перекладиной — чистая работа! Да, это была «склепка»... Сделал полный оборот, тоже чисто, и соскочил на землю, притрушенную старыми опилками. Не качнулся, зафиксировав «стойку». Офицеры замерли, молчали.
Василин обернулся к строю — были и горделивость, и законное довольство собой, — утер нос этим новоявленным спасителям армии! Но вдруг глаза его наткнулись на невысокого, приземистого капитана во второй шеренге. Грудь под кителем у того вздулась, а главное — взгляд, настороженно уставленный на него, Василина; он, этот взгляд, чем-то в мгновение разозлил — пугливостью, ожиданием? Еще не думая, как поступит, Василин спросил:
— Ваша фамилия?
— Карась... — Голос у офицера пресекся. — Капитан Карась, командир второго подразделения...
— Хм! — фыркнул Василин. — Черт те что! Карась?!
— Так точно!
«Карась, Карась... — пронеслось в голове Василина, сразу возбуждая какое-то воспоминание. — Постой, постой! Письмо...»
— Я вам... — Карась запнулся, краснея.
— Ясно! Знакомые. Вот и покажите, как старый зенитчик, утрите всем нос... Можете?
Словно сразу став бесплотным, оглушенный, бесчувственный, Карась вышел к снаряду. И, подпрыгнув, зацепившись за круглую, холодившую ладони перекладину, завис, жалко дергаясь, пытаясь подтянуться подбородком к трубе, но безуспешно.
— А-а, тоже сосиска!.. — Василин отвернулся, раздраженно надел китель, фуражку. — Поедемте, Танков!
До ЗИМа, остановившегося у дороги, шли молча: Василин сердито вытягивал ноги из грязи. Возле машины правая нога увязла, он дергал ею, и вдруг его прорвало:
— Циркачи! Революцию собираетесь делать! А кругом кавардак — по уши в дерьме!.. — Он с силой выдернул ногу, тяжело перевалил тело на переднее сиденье открытой машины. — Командиры!.. Свадьбы солдатам устраиваете! Как его? Метельников?.. Его судить надо, а вы... На свадьбы только и способны, отцами посажеными быть!
Захлопнул дверцу. Машина, фыркнув сизой гарью, резко, с ходу, набрала скорость.
Только тут оба, Фурашов и Моренов, одновременно, словно по сговору, увидели: галоша Василина краснела байковой подкладкой в густой грязи...
3
Странно, Фурашов не осуждал Василина и, думая сейчас о нем, впервые не испытывал непримиримого протеста и, как бы продолжая тот неожиданный вывод, возникший еще там, когда подразделения проходили с песней, спорил с каким-то вторым собой: «А почему должно ему такое нравиться? Почему? По форме он не прав? А по существу?.. По существу ты, Фурашов, возразить ему не можешь!»
Чавкала под сапогами размешанная грязь, то и дело приходилось переступать, перепрыгивать через глубоко вдавленные колеи от самосвалов — они разрезали вкривь и вкось пустой участок между казармой и штабом: строители заканчивали гараж, столовую, пожарную.
«Да, Фурашов, если ты честен, если ты коммунист, должен признать: прав Василин! Пока все это мало походит на порядок, на армейский уклад, хотя, конечно, ты мог бы найти оправдание... Мог!»
Но, видимо, чтобы не вилять, не прятаться за всякие «оправдания», надо, чтобы в человеке утвердилось что-то главное, что делает его несгибаемым. Но в чем оно, главное, для тебя? Вот в этой революции, революции в военном деле? Ты же веришь в нее, подобно генералу Сергееву, веришь, что она идет, а уяснил ли, что для тебя это главное? Как он сказал, Василин? «Революцию собираетесь делать, а кругом кавардак!» Что ж, есть правда в его словах... И все-таки ты не можешь не признать: у Василина твердое убеждение, вера во всемогущество пушек, пусть и ошибочная вера, но тут у него своя сила! И ты сегодня это увидел, почувствовал, понял. Ты же взялся вершить революцию вместе с сотнями, тысячами подобных тебе! И значит, она должна дать опору тебе, всем... Опору. Точку. Ту самую точку опоры, о которой всю жизнь на своих лекциях говорил доцент Старковский. Но говорил лишь как о разрешении извечной математической задачи, тебе же она нужна в жизни, в каждодневных делах — сегодня, сейчас, всякую минуту...
Только на пороге штаба Фурашов вспомнил — рядом всю дорогу шагает замполит Моренов — и, подумав: «Неловко, иду молчуном», обернулся.
— Что ж, минуй нас пуще всех печалей... Однако не миновали ни любовь, ни гнев Василина?
— Да, конечно, — отозвался Моренов, — не лучшим образом показали себя. Но у Василина — неверие и недоверие...
— Ко мне это у генерала Василина давно, Николай Федорович... С Москвы.
— Да? — На секунду оживление согрело лицо Моренова, словно замполита коснулось радостное, сокровенное, но тут же живинка в глазах угасла. — Недоверие... если бы его можно было использовать в качестве топлива, то человечество давно бы улетело в другие миры.
— Но нам с вами не в другие миры, Николай Федорович... Надо думать, как эту извечную формулу «нос вытащил — хвост увяз» и наоборот, как ее разрешать.
— Понимаю... А я его узнал.
— Кого?
— Василина.
Фурашов прищуренно взглянул на замполита — знает Василина?
Что-то грубовато-тяжелое было в лице Моренова, словно неведомый скульптор трудился над ним, не задумываясь об изяществе, о тонкости черт, а заботясь лишь о крепости, основательности. Сейчас эти черты в тусклом свете проступали особенно отчетливо. На большом выпуклом лбу вольготно кустились подвижные брови; нос широкий, ноздри будто отсечены глубокими прорезями, подбородок массивен. Но все — в той, хоть и своей, особой, может, не всякому лю́бой, но ладной гармонии. Есть в нем притягательное, но в чем оно? В этом лице или в той не «комиссарской» какой-то скупости на слова? Говорит он неторопливо, точно взвешивает слова так и сяк про себя, а потом произнесет, обнародует. Он даже не умел, кажется, произносить больших речей, однако короткие речи его были тоже вроде литыми, крепкими, где каждое слово к месту, прилажено одно к одному. И был он лет на пять старше Фурашова, а по виду — должно быть, из-за своего лица — на все десять.
— Да, я его узнал, — прервал молчание Моренов. — Комбриг. Зенитчик, а в сорок первом оборону на одном участке возглавлял... Батальон наш встречал после выхода из окружения. Свирепый. Построил батальон. «А почему вы, замполитрука, людей выводили, а не командиры? Вон, вижу — старший лейтенант и лейтенант есть...» А после своему адъютанту: «Два кубика ему, лейтенанта! Приказ сегодняшним числом».
— Почти как в сказке, — проговорил Фурашов.
— Может, и не как в сказке, а на предсказания гадалки смахивает! «Ваши пути пересекутся, и личная жизнь изменится...»
4
С утра у кирпичного здания, в тени деревьев, вновь выстроились машины. Подходя сюда, Фурашов, однако, отметил: их было меньше, чем в тот день, когда комиссия приняла решение приостановить государственную приемку «Катуни». Что ж, тогда сюда съехались все члены комиссии, сегодня же лишь рабочая часть, поэтому-то сейчас среди машин совсем не было ЗИМов, да и «Побед» виднелось всего с полдесятка.
Небо за ночь очистилось, голубело стираным шелком с бледными перьями-прожилками. Солнце огненным куском металла поднялось невысоко, и на небосклоне у горизонта плавало, как в растопленном масле; день обещал быть горячим, душным — испарения истаивали в стеклянном воздухе, и Фурашов чувствовал одышливую тяжесть.