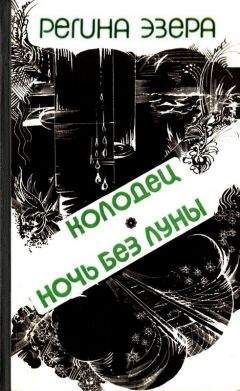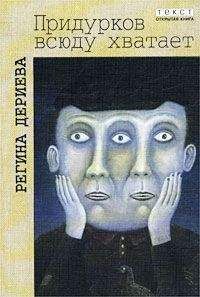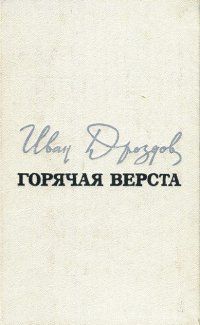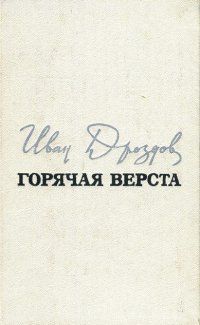Регина Эзера - Невидимый огонь
А мальчик? Что искал в нем Атис? Может быть, Атису нужен был вовсе не он, а нежная привязанность его собаки? Или его диковинная заморская птица? Животные, словом, а не он — Феликс Войцеховский?
Ладно, пусть будет так…
Но суждено ли этим влечениям и склонностям Атиса сжаться как пальцам в кулак, в призвание то есть, составить смысл жизни? Или же они станут мечтою вообще, страстью вообще — лунными арками и пустоцветом, миражем в пустыне, вспышками зарниц — вечной и мучительной неутолимой жаждой?..
Войцеховский поймал себя на том, что снова думает не об Атисе, а о Петере. Может быть, он меряет Петера на своей аршин — и в этом его роковая ошибка? Может быть, то, что ему представлялось страданием и бессмыслицей, оно и есть для Петера настоящее счастье, которого он, Войцеховский, просто не в силах понять, как невнятен для домоседа инстинкт странствий в генах перелетной птицы? Ведь что мы, по сути, знаем о других людях, даже о собственных сыновьях?..
Войцеховский откашлялся, стараясь стряхнуть с себя эти мысли. Какой от них толк? Разве они могут изменить что-то, поправить, эти бесплодные мысли?
— Ты ужинал, Атис?
— Ага.
— Но со мной ведь ты закусишь?
— Можно, — согласился мальчик.
— Прогуляй пока Нерона, а я тем временем согрею чай.
Он поставил на газ чайник и пошел в ванную.
Теплой воды, само собой, не было, да и кто бы нагрел бойлер. Он отвернул холодный кран, разделся, однако помешкал, прежде чем рискнуть стать под душ. В такие моменты яснее, наглядней всего видно — брр, холодная как сто чертей! — до чего неистребим в человеке инстинкт беречь свою шкуру. В прямом и в переносном смысле… О, под обжигающе ледяными струями ты еще способен философствовать, пан Войцеховский! Вот это энтузиазм! О-ох, того и гляди, отлетит душа грешная, Ну-ну, не распускаться, больше жизни, выше голову! И что-нибудь вдохновляющее, идейное! Mens sana in corpore sano[10], скажем, или…
— Дядь!
— Ты уже вернулся?
— Там чайник бежит!
— Уверни газ. Я сейчас. Слышишь?
— Ага.
Ледяные струи бодрили, вместе с потом смывая усталость, зато напомнил о себе старый добрый ревматизм — не без этого. Не нравится такой душ, не по нраву… Ванну ему подавай! Грелочку. Тигровую мазь. Однако тепло после трудного дня он переносил еще хуже — сразу сморщивался как перезрелый гриб и выдыхался, как лимонад в открытой бутылке. Ослаб мозговой и мышечный тонус — старик!..
— Дядя!
— Иду, сейчас иду. Уже все.
— Покормить Тьера?
— Уже вытираюсь!
Рука сама потянулась за мохнатой простыней. Так. Теперь поскоблиться. Это займет минуты две-три. Он брился по вечерам. Долголетняя привычка женатого человека. Но не только. Утром частенько надо бежать сломя голову… Так. А теперь халат. Самочувствие? Вполне сносное, если не считать боли в коленных суставах, но это не в счет…
Он заварил чай и нарезал сыру.
— На вот неси сахар. А тут печенье. Как ты думаешь, варенье нам взять?
— А какое у тебя?
— Вишневое.
— С косточками?
— Да.
— Мама говорит, от косточек может пристать слепая кишка, — сообщил Атис, но банку все-таки взял, — подумаешь, ну и пристанет, одной кишкой больше, одной меньше…
Они сели оба, точнее говоря — все; Войцеховский по эту сторону стола и напротив Атис, Тьер на спинке стула и рядом на полу Нерон. Идиллия. «Двойной портрет с животными», — подумал Войцеховский, словно лаком сглаживая привычной иронией налет сентиментальности.
— Позволь я тебе налью.
Атис протянул свою чашку.
В дверь постучали.
— Войдите!
О господи, неужто сегодня еще куда-то придется ехать?!
Но это был Айгар.
— З-з-здравствуйте. Вот он где! — с порога выпалил Айгар, и сильное заикание выдавало степень его возбуждения. — Н-ну з-знаешь!
— Садись с нами, Айгар.
— Н-не могу. Мама и так злая к-как фурия. Все М-мургале, говорит, обегаешь, пока с-сыщешь этого балбеса. Ну, ты дома получишь!.. Я с-сразу сказ-зал, не у вас ли, а… Ну, Атис, живо.
Атис медленно сполз со стула.
— Ну, тебе сказано? Из-за тебя мне вечно приходится рыскать по следу, как ищейке… Как раз ф-футбол передают, а я… г-говорить неохота… Давай шевелись! Ну вот, до свидания.
Зато Атис не попрощался и в двери даже не оглянулся, и его лица Войцеховский не видел.
— Do widzenia, panie… do widzenia, — восторженно крикнул Тьер.
— Да уймешься ли ты, трещотка! — устало сказал Войцеховский.
Хлопнула дверь, шаги удалились. Невыпитая чашка, надкушенный бутерброд с сыром… Какая сильная усталость… Ну ешь, пан Войцеховский, подкрепись, чего ж ты нос повесил? А еще говорил про энтузиазм. Ты просто стареешь, дорогой, милый доктор!..
Хоть бы позвонил кто. Но — тьфу, тьфу! — не накликать бы беды. Звонок — это вызов, почти со стопроцентной гарантией. Разве что Цилда позвонит из Раудавы. Но вряд ли. Да и что отрадного могут сказать друг другу люди, для которых стадия телячьих восторгов, усмехнулся про себя он, благополучно осталась позади?
Хоть бы пришел кто пригласить на блины — жестковатые от стоянья в духовке блинцы с прошлогодним клубничным вареньем…
Войцеховский сидел, подперев ладонью подбородок. Чай в чашке дымился горячо и ароматно, понемногу остывая.
Какое острое чувство утраты — несоразмерное случаю! Что же такое произошло? Ничего не произошло, ушел Атис, только и всего…
— Какой ты рыхлый, Феликс Войцеховский, — сказал он себе. — Как плохо смотанный клубок. Пустое недоразумение, легкая неувязка, мелкая заминка — и всё, и поехало; сползет нить — и ты уже разваливаешься, разматываешься, раскручиваешься до сердцевины. Не надо копаться, ворошить былое, это никогда не вело к заживлению и рубцеванию. А изводить себя — этим грехов не искупишь, ты не Иисус Христос, пан Войцеховский.
Но он мог быть только таким, какой он есть, — достаточно старым, чтобы сознавать свои плюсы и минусы, и слишком старым, чтобы что-то изменить.
Он мог скрыть лысину, но не мог отрастить волосы, он мог не носить трость, но не мог не хромать, он мог не говорить о том, что у него болит, но не в состоянии был не думать — он не мог, как и всякий из нас, переступить через свою тень. И он нес свое прошлое, отмеченное гибелью близких и собственными страданиями, как улитка несет свой дом, только это ни от чего его не спасало: случайное прикосновение — и сразу обнажались живые ткани. Прошлое обнимало его со всех сторон, как покров обнимает куколку, только он не мог из него выпростаться и улететь. И самым тягостным в его жизни была…
Смерть матери, которую он совсем не помнил? Или смерть отца, которая, быть может, несла избавление измученному телу? Смерть Евы, горечь которой смягчили расстояние и время? Или смерть Марты, легкая и мгновенная, как у многих сердечников, безболезненная, какой он желал бы и себе?
Смерть Зенона! Ствол автомата, наставленный на упавшего, вконец обессиленного живого человека, которому было отказано в последнем утешении — возможности умереть стоя. И отречение Петера, что было равносильно смерти, хуже смерти — все равно как предательство… Ужас на лице сына при их первой встрече…
Рассудком — да. Рассудком он мог понять и осознать, что слово «папа» у четырехлетнего мальчонки связывалось только с Мартином Купеном, а не с бог знает откуда взявшимся бритоголовым живым скелетом — а кем же иным он и был тогда, сразу по возвращении? Но он не мог ничего с собою поделать — природная нетерпеливость, болезненная взвинченность в ожидании встречи взяли верх над голосом разума, и вопреки его воле в нем что-то сломалось. Он стоял, сняв шапку, как проситель, голова у него мерзла, и в нем что-то разбилось. В нем многое разбилось за четыре года — сначала в Раудавской тюрьме, потом в Саласпилсе, затем в Штутгофе и впоследствии тоже, когда требовали доказательств, как и почему ты остался жив. Казалось, он пережил все, что только в силах выдержать и вынести человек, и его ничто больше не может согнуть, ничто не может потрясти. Но оказалось, что может… Он смотрел на Купенов — на Мартина и Марианну — с жаркой, жгучей, переходящей во вражду ревностью, ведь им принадлежал его сын, его Петер, а те смотрели на него с опасением и страхом, что он явился отнять у них Петера, полные решимости мальчика не отдавать, готовые отстаивать свои законные права на приемного сына любой ценой, хотя бы даже силой. А Петер кричал: не хочу… не хочу… не хочу… и, в страхе убегая от него, прятался за Марианну. Это было как удар, больше чем удар — это было предательство.
Он стоял, глубоко униженный, несмотря на то что за четыре года был столько раз оплеван, втоптан в грязь, избит и еще недавно думал, что ранить его уже не может никто и ничто. Но оказалось, что он ошибался и формы страданий бесконечны. И в то время как Петер, отрекаясь от него, кричал «не хочу», он давал себе клятву, что завоюет, добьется любви сына любой ценой, хотя бы даже силой. Это было как помрачение.