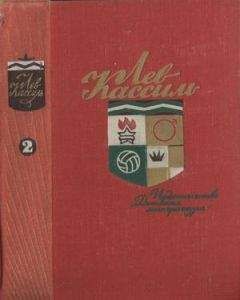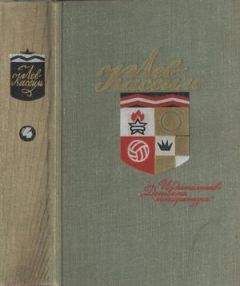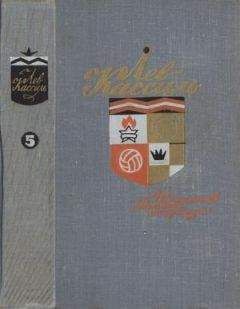Лев Кассиль - Том 1. Кондуит и Швамбрания. Вратарь Республики
Очень холодно. Очень хочется есть. Шестой час. Биндюг берет книги и уходит. За ним, опустив глаза, стараясь не смотреть на нас, идут к дверям другие. Но их немного. Остался Лабанда, остался Костя Жук, осталась Зоя Бамбука. Остались все лучшие ребята и девочки.
Мы зажигаем коптилки с деревянным маслом. Комиссар растапливает железную колченогую печку-«буржуйку» и варит в консервной банке краску. На полу раскладывается бумага. Художество начинается. Кистей нет. Рисуем свернутыми в жгут бумажками. Детали выписываем прямо пальцами. Буквы наши не очень твердо стоят на ногах. В слове «сыпняк», например, у «я» все время расслабленно подгибается колено. Насекомые выходят удачнее. Но Степка затевает спор с Костей Жуком о количестве ножек и усиков.
– Эх ты, Жук! – корит Костю Степка. – Фамилия у тебя насекомая, а сколько ножек у ней, не знаешь.
Большинством голосов мы решаем ножек не жалеть. Чем больше, тем страшнее и убедительнее. И вот на наши плакаты выползают многоножки, сороконожки, стоножки. Мы ползаем по холодному полу, и утомившийся за день комиссар помогает нам. Он мешает краску, режет бумагу, изобретает лозунги. У него нестерпимо болит голова. Слышно, как он приглушенно стонет минутами.
– Товарищ комиссар, вы бы домой пошли, – советуют ему ребята, – вы же вон как устали. Мы тут без вас все сделаем…
Комиссар не сдается и не уходит спать, как мы его ни гоним. Он даже подбадривает нас то и дело и восхищается нашими плакатами.
А в углу, за партой, мы – я и Степка – сочиняем стихотворный плакат. Мы долго мучаемся над нескладными словами. Потом все неожиданно становится на свое место, и плакат готов. Нам он очень нравится. Комиссар тоже должен оценить его. Гордясь своим творением, мы подносим его Чубарькову. Вот что написано на плакате:
При чистоте хорошей
Не бывает вошей.
Тиф разносит вша,
Точка, и ша!
Но комиссар уперся в плакат невидящими глазами. Он сидит на парте, странно раскачиваясь, и что-то бормочет.
– Чего же они не встречаются?.. – беспокойно шепчет комиссар. – Пущай встренутся… И точка…
– Кто не встречается, товарищ Чубарьков? – спрашиваю я.
– Да они же, А и Б… путе…шественники…
Александр Карлович встревоженно наклоняется к нему. Гибельным тифозным жаром пышет комиссар.
Плохо делоКомиссар при смерти. Об этом только и разговору у нас в классе.
А дома, когда я возвращаюсь из школы, Оська уже в передней говорит мне:
– Знаешь, Леля… А комиссара теперь самоваром лечат. Я слышал, папа по телефону в военкомат звонил и говорит: три дня, говорит, на конфорке его держу.
– Да брось ты, Оська! – не верю я. – Опять ты чего-то кувырком понял. Не смешно уж…
Но Оська упорствует:
– Ну правда же, Леля! Его, наверно, как меня, помнишь, когда ложный круп был, горячим паром надыхивали.
Но тут возвращается из больницы папа. У него такие строгие глаза, что даже Оська, который обычно сейчас же карабкается на него, как на дерево, сегодня стоит в отдалении. Папа снимает пальто. В прихожей сразу начинает пахнуть больницей.
Потом папа идет умываться. Мы следуем за ним. Долго, как всегда, очень тщательно моет он мылом свои большие красивые докторские руки, чистит щеточкой коротко обрезанные ногти. Потом папа принимается полоскать рот, при этом он закидывает далеко назад голову, и в горле у него кипит, как в самоваре.
Мы стоим рядом и следим за этой процедурой, так хорошо знакомой нам обоим. Стоим и молчим. Наконец я решаюсь:
– Папа, а что это Оська говорит, будто комиссара самоваром лечат.
– Каким самоваром? Болтаешь…
– Ты же сам, папа, по телефону говорил, – не сдается Оська, – что третий день держишь комиссара на конфорке.
Папа коротко и невесело усмехается:
– Дурындас! На камфоре мы его держим. Понятно? Инъекции делаем, уколы, каждые шесть часов. Сердце у него не справляется, – объясняет папа, повернувшись уже ко мне и вытирая вафельным полотенцем руки. – Температура, понимаешь, жарит все время за сорок. А организм истощен возмутительно. Абсолютно заездил себя работой человек. И питание с пятого на десятое. Ну вот, теперь и расхлебывай.
– Значит, плохо? – спрашиваю я.
– Что же хорошего! – сердито говорит папа и бросает полотенце на спинку кровати. – Одна надежда – организм богатырский. Будем поддерживать.
– Папа, а долго так?
– Тиф. Сыпняк. Трудно сказать. Ждем кризиса.
В классе теперь, едва я вхожу, меня окружают наши ребята и уже ждущие у дверей старшеклассники.
– Ну как, кризис скоро?.. Что батька твой говорит?
Но кризиса все нет и нет. А температура у комиссара с каждым днем все выше и выше. И сил с каждым часом все меньше и меньше. Неужели «точка, и ша», как сказал бы сам комиссар в таком случае…
Степка Атлантида и Костя Жук после школы сами бегают к больнице, чтобы наведаться там в приемном покое, как комиссар. Но что им там могут сказать? Температура около сорока одного, состояние бессознательное, бред…
Плохо дело.
Да – нет…Ночью я слышу сквозь сон телефонный звонок. И почти тут же меня окончательно будит гулкий, настойчивый стук в парадную дверь. Потом я слышу знакомый голос Степки Гаври:
– Доктор, ей-богу, честное слово… Я же там сам был… Только меня прогнали… У него сердце вовсе уже встает. У него этот самый, сестра сказала, крызис.
Слышится негромкий басок папы:
– Тихо ты! Перебулгачишь весь дом! Мне уже звонили. Иду сейчас. Только, пожалуйста, без паники. Кризис. Резкое падение температуры… А ты, Леля, что?
Я стою, накинув одеяло, и лязгаю зубами от прохватывающего меня дрожкого озноба.
– Папа, я тоже с тобой.
– Совсем спятил?
– А Степка почему?
– И Степка твой если сунется – велю хожаткам его в три шеи… Вас, кажется, на консилиум не звали.
Папа быстро одевается и уходит, хлопнув парадной дверью. Обескураженный Степка остается у нас.
Долго идут холодные, медлительные и знобкие ночные часы. Просыпается Оська. Увидя, что на моей кровати сидит Степка, Оська тоже садится на своей постели. Два кулака – Степкин и мой, – показанные ему вовремя, заставляют Оську снова юркнуть под одеяло. Но я вижу, как блестит оттуда любопытный Оськин глаз. Оська не спит и слушает.
– Как считаешь, сдюжит или не сдюжит? – шепчет Степка.
И мы с ним долго говорим о нашем комиссаре. Хороший он все-таки! И в школе почти все ребята теперь уже за него. Потому что он сам справедливый и стоит за справедливость. Здорово он тогда скрутил наших троглодитов, и недаром Карлыч его уважает.
– Я знаю, он на фронт мечтает, – шепотом рассказывает мне Степка. – Уже просился, заявление писал, чтоб отпустили. А его обратно – отставить! Говорят, нужна советская власть и на местах. И все!
– Да, если уедет, паршиво опять будет.
– Ясно. Он хоть и свой, а насчет дисциплины – ой-ой-ой! Держись! Если уедет…
И вдруг мы оба замолкаем, сраженные одной и той же страшной мыслью: где тут «уедет или не уедет»!.. Ведь сейчас, вот в эти самые минуты, может быть, там, в больнице… где наш комиссар бьется со смертью… И старые стенные часы в столовой громко и зловеще шаркают на весь дом: «Да – нет… сдюжит – не сдюжит…» Будто ворожат, обрывая секунду за секундой, как обрывают, гадая, лепестки ромашки.
…Да – нет… сдюжит – не сдюжит…
Но тут щелкает ключ в английском дверном замке на парадном. Слышно, как папа снимает калоши. Мы со Степкой несемся в переднюю.
Страшно спросить. А в передней темно – хоть глаз выколи – и не видно папиного лица.
– Вы что это? Не ложились? Вот народ полночный! – гудит в темноте папа, но голос у него не сердитый, а скорее торжествующий. – Ну ладно, ладно. Понимаю. В общем, думаю, справится! Сейчас спит ваш комиссар, как новорожденный. Чего и вам желаю. Марш, живо на боковую! Мне через два часа на обход.
Вот уж когда действительно «У-ра, ý-ра! – закричали тут швамбраны все!..»
«Гляделки на поправке»Комиссар поправляется! Но он еще очень слаб. Только вчера его перевезли наконец на квартиру, в дом бывшего купца Старовойтова, и Степка Гавря ходил навещать его. Все в классе окружили Степку и слушают.
– Он говорит, – сообщает Степка, – что когда жар у него был, так все ему мерещилось насчет путешественников этих самых – А и Б… Из задачки. Помните, ребята? Он говорит, прямо всех там в больнице замучил: почему никак они не встренутся, путешественники. Все едут и едут… Как съехались, говорит, так и пошел на поправку…
– Это он, наверно, все про нас думал, а у него так получалось из-за температуры, – солидно объясняет Зоя Бамбука.
– Ясно, – соглашается Степка. – Меня к нему только на десять минут пустили. Там сестра милосердная у него еще дежурит из больницы. Так он только и твердит все: как там у вас в школе? Да не безобразничаем ли мы? Да как Карлыч справляется? Да подтянулся ли Биндюг по алгебре?