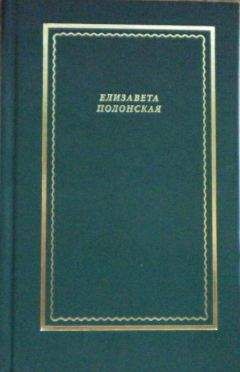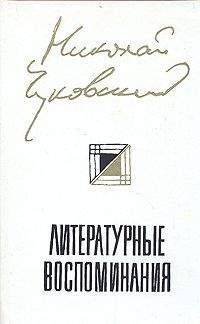Всеволод Иванов - Серапионовы братья. 1921: альманах
— Ах так! Ничего… Мы должны быть героями. И чепуха станет правдой… Да… такое наше время, чтобы герои кругом…
Дондрюков оглянулся: как быстро пустела комната…
Остались только Федя и Катя.
Федя по-собачьи жмется к стулу.
— Я не герой, я не умею…
— Сумеешь, черт возьми! — Дондрюков багровеет. — Товарищ Федя!
Федя ошеломлен, его в первый раз торжественно называют товарищем.
— Возьмите команду связи и патроны во втором этаже… Штаб будет защищаться…
— Но ведь я…
— Что?!
Федя топчется по-собачьему у двери.
— Хорошо… из-за Катюшечки… ради Катюшеньки милой…
И увильнул.
Катя торопливо сдергивает кожаную куртку.
— Концом пахнет! Надо уходить…
— А это?
В руке у Дондрюкова уверенно и угрожающе скользнул тяжелый кольт…
Взглянув на Катю, Дондрюков подошел, растерянно притронувшись к вздрагивающим круглым ее плечам.
— Ну не плачьте… все равно поздно… не надо… если будем там вместе, я поцелую… я полюблю вас!
Он усмехнулся. На секунду пропестрели перед его глазами сцены нежной любви скромного пажа Уго и маркизы Паризины, заключенных в одну темницу суровым мужем, владетельным маркизом Николло.
Он усмехнулся еще раз, слегка касаясь губами чуть теплой Катиной шеи. Кате хотелось сказать: «Вы — герой…» Но она промолчала, было страшно.
Часы с колокольни опять неожиданно стали бить, вытягивая медленные и медные звоны, как и раньше… В слободе еще отстреливались, и на флагштоке тупоносого Рвотного форта все еще реял и резался, борясь с ветром, красный наянистый флаг… — не огненный ли это язык лижет хвою?
XIII. Конца нет
Почившим песнь окончил я,
Живых надеждою поздравим.
Гулкие залпы орудий, под конец ухнув тяжко и медленно, смолкли. Нажрались сытые звери. Небо тоже нажралось, сытое-тучное, в жирных густых облаках, — и тоже молчит коварно и ласково, как перед майской грозой. И человек в пылу ссоры наорет, нашумит и сразу остынет, только малые тучки пробегут еще между глаз.
Но где вызнать исход? Кто угадает последнее?
Через деревню Побережная, где жила Полага, проходили отряды красных, муравьями рассыпаясь по лесам.
Иной раз, даже ночью, вспугивала тихого жителя неожиданная, бодро-заученная песня; песня прорывалась сквозь ветер, разлетаясь хлопьями по полям:
…а-а, а-а… на барри-кады,
Нам неве-дом жалкий страх,
Умереть-ее-ть мы бу-удем ра-ды
С красным зна-менем в ру-ках!
Слыша это, кто подскажет решение?
Мужики ожесточенно щелкали бранью, что калеными орехами; заела их срочная подводная повинность.
— Видали… по военным обстоятельствам маемся. Конца им, проклятым, нету. Когда ж пошабашим?
— Выждать надо, пока что, а там…
Обозленные ожиданием, они крепче ругались меж себя, больнее стегали лошадей и чаще, чем всегда, рассовывали подзатыльники ребятам.
Среди белых холстов скучных полей докопались до мерзлой земли; в синих лесах, пахнущих сладкой хвоей, забродили дозоры. Они-то и выкурили Пима с пухлой опушки, что медведя из берлоги. Он осел на хлеба у Полаги.
— Ну, Тимоха твой как?
— Чего ему деется, телепню…
Полага по-прежнему грустна, и при взгляде на нее сейчас же представляется печальное и бледное зимнее поле.
— Уйду, деда, силы моей нету…
— Куда пойдешь, дурочка?
— А в губернский или дальше куда…
— Ишь, торопыга, скок-скок, погоди, и у нас отишает. С полой водой речка бежит, умутившись, а гляди — и осядет. И у нас осядет. Тихо жить будем.
— Нет, пойду; не могу я здесь.
— Ты что… ради зазнобы Тимошкиной…
— Нет, деда, идти мне… А батюшка пусть простит… Ты уже походи за могилкой-то, Пим.
Была Полага когда-то: грудь — паруса, пышная и натужистая, а с тех пор, как, упав в амбаре, выкинула недоносыша, захилела — и такая тяга затомила, что падучую осеннюю звезду. И ходит Полага с одною думой о дальней дороге, о большом городе с золотыми крестами на красных куполах.
— Может, найду долю…
Вчера прибежал на деревню цирульник Федя, больше, чем всегда, встрепанный и мокрый — шавка, вытащенная из пруда.
Он рассказывал на улице, подрагивая правой рукой, точно брея:
— Заарестовали, значит, по военно-полевому суду. А как некоторых особо важных особым приговором присудили и повели через плац к березке, что у Федоровской церкви… Тут и Катюшеньку нашу, а она ничего… улыбается да шепчет чего-то племяннику Дондрюкову, вроде бы радостное чего-то у ей… а тут слободские, что сучки, к ней, да в куски, да по снегу насквозь голую через Репей-лог в пролубь окунать. Она кричит: «Ой, боюсь!» — а им смешно. И Цукер потом, который убежавши еще был, на плацу речь народу говорит. Имеем, говорит, право, именем революции, кровь за кровь… зачем, говорит, Россию большевики колом пришпилили…
Рассердился Пим.
— Ненастоящий этот твой Сукин… Кровь за кровь… чему учит, ах шелапут…
Полага:
— А Ругай где?
— Повыпускали их из галереи… Только он совсем… Сидит у березки, где Дондрюков болтается, — и плачет. Зачем, кричит, черти милые… ну зачем? Да за ноги его трясет…
В это время, рассекая народ, тяжело шел обоз Красного Креста; в головной повозке, весело оглядываясь, будто играя в занятную игру, сидела Тайка.
Увидев Полагу, она окликнула:
— Пойдемте…
Из кучки спросили, смеясь:
— К белым, что ль, Таисия Никаноровна, собралась… Иль белых вышибать?
Тайка хохочет, подрагивая звонкими стеклышками:
— А я почем знаю… Там увидим.
— Снова, что ли?
— Опять сначала.
А мужики свое:
— Конец-то скоро ли?
Но повозки ползут без ответа, отъевшиеся, ленивые.
И только Пим, скребясь за ухом, ответил мужикам:
— Терпи, ребята. Осядет… Как пить дать осядет.
В беспредельном мире разве сыщутся концы? Синяя упавшая осенняя звезда вдруг ребенком оживет на земле? Не конец, а отклик мы ловим в веках — то, что было и будет…
И разве не протилинькают задумчиво по бастионам нам знакомые шпоры?..
И к нашему стыду, но разве мы можем отречься, что после нас слепая слободская издевка не надругается над девушкой в Репейном логу: мы поймали в нем давнее эхо и слышали теперешнее… не так же ли отзовется и будущее?..
Пролагатели новых колей так же вязнут в промоинах, ибо хоть выверни землю овчиной наружу, не та же ли будет земля?
Не проще ли начать нам нашу повесть сначала:
Так замело лесные проселки — пусти роту кованых молодцов в чугунных сапогах — и им не умять, не провести дороги.
Скверно, скверно! Надо дать человеку отрыгнуться… и не надо морщить нос, увидя рвотное.
Сквозь лес, забухший чесаным снежным льном, не раз услышим еще тягучие звоны с трехъярусной желтой колокольни на Рвотном форту; не раз вспугнем укающих по ярусам голубей.
25/V—21 г.
ВЕНИАМИН ЗИЛЬБЕР
ОДИННАДЦАТАЯ АКСИОМА
Допустим, что через точку O, взятую вне данной прямой AB, на плоскости, где находятся и O, и AB, можно провести не одну, но много линий, не пересекающихся с линией AB.
Геометрия Лобачевского§ 1. Да. Король бубен, усмехаясь, лез в лицо и иногда, заламывая берет, хохотал гулким хохотом: так мерещилось.
Был очень поздний час, и студент знал, что скоро потушат свечи. Белые руки его дрожали, а на лбу выступил холодный и липкий пот. Его партнер запел фальшиво и тонко и заметил, что банк удвоился и что шестой час. Да.
— Я проиграл все, — сказал студент, — даже то, что вчерашний день одолжил у старого.
Потом игра продолжалась.
Два раза он неудачно передернул карту и встал. Оделся и вышел, осторожно опуская дверь, и сразу пальто его и шапку запорошило снегом и занесло ветрами.[52]
§ 1. — Достославная жена! Я — прах и пыль, но я скажу еще одно слово.
Так я говорил, и она отвращала от меня лицо свое, ибо я — грешен.
Господи помилуй!
Позднее время глядело в окна кельи. Я потушил свечи, и бледный рассвет пал на меня и на священные книги.
В гневе говорил: «Что мне до вас, священные книги?» — и был похож на молодого распутника, что бессонной ночью тратит в азартной игре последнее свое достояние.
И далее речь моя: «Ныне, ночью, дважды загорался любовью к Тебе, Святейшая Матерь Божия, и дважды гас пламень верный, и снова не было его.
Да светит мне вера твоя, святой брат. Иду к тебе».
§ 2. Снова идти к старому было глупо. Не было сомнения, что денег он больше не даст.