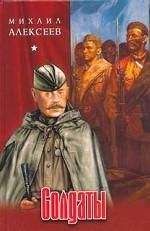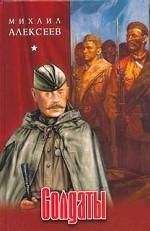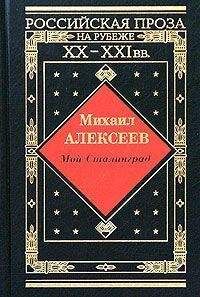Михаил Алексеев - Драчуны
Говорят, что пути господни неисповедимы. Какая любопытная, захватывающая картина явилась бы нам из-под пера того, кому удалось бы проследить судьбу каждого из нас так, как сложилась она от рубежа, помеченного тридцатым годом, до нынешних дней! Но кто возьмет на себя сей труд? Летописцы давно перевелись на нашей земле, да и по силам ли такая работа одному человеку? Не лучше ли сосредоточиться на какой-нибудь одной или нескольких судьбах и последовать за ними? Но и за ними уследишь ли?..
Авраама Кузьмича и многих других моих земляков спасла отцова справка. Но сам папанька не мог оборониться никакой бумагой от вихревых событий, которые очень скоро подхватят, как перышко, и его, подхватят и стремительно понесут к роковой черте. Не догадывался ли он о том, когда, осатанев, опрокидывал в себя стакан за стаканом, стараясь не отставать даже от несокрушимого Муратова?
С рассветом все четверо покинули нашу избу и, увлекаемые отцом, десятью минутами позже ввалились в дом Григория Яковлевича Жукова, менее всего ожидавшего таких гостей. Теперь уж не Муратов, а папанька, не давая хозяину опомниться, выхватил из кармана, как из ножен саблю, бутылку и с грохотом водрузил ее посреди стола, объявив при этом:
– Давай, Григорий, мировую!
5
Не прибегая к предварительному расследованию дела, наш премудрый Кот, то есть Иван Павлович Наумов, безошибочно определил, кто был зачинщиком «ледового побоища» в Кочках и, переняв метод Воронина, объявил Ваньке Жукову и Гриньке Музыкину новейшую меру наказания – бойкот. Всем остальным своим ученикам он дал при этом устную инструкцию, из которой следовало, что отныне в течение всего года никто из нас не должен ни разговаривать с бойкотируемыми, ни подавать им руки; сам же учитель для себя положил, что будет вести уроки так, будто этих двоих вовсе нет в классе, что они для него как бы перестанут существовать.
Однако очень скоро выяснилось, что на этот раз учитель явно перемудрил: употребленное им наказание пошло впрок драчунам. Мало того, что они могли теперь не готовить уроков, не выполнять домашних заданий, а в школе не слушать того, что говорит преподаватель, не участвовать в придуманном Котом состязании «кто решит – тот домой», не оставаться после занятий для того, чтобы рисовать плакаты и лозунги к праздникам. Мало этого, нежданно-негаданно предоставлялась почти полная свобода и для их рук, и для языка. В первый же день после вступления бойкота в силу они пустили в дело то и другое. Жуков, сидевший за одной партой с Дуняшкой Поляковой, упорно отмалчивавшейся при всех его словесных домогательствах, больно ущипнул девчонку за бок. Та взвизгнула, подпрыгнула, как кошка, и ответила соседу по парте звончайшей пощечиной, вступив при этом в горячий диспут с ним, чего, собственно, и нужно было Ваньке. Действия свои он, по-видимому, заранее согласовал с Гринькой, потому что и тот уже вовсю переругивался с Шуркой Одиноковой, по несчастью оказавшейся его напарницей. По смелости и дерзости Щука (прозвище Одиноковой) нисколько не уступала не только Катьке, но и самому обидчику, а потому и не осталась перед ним в долгу. Позабыв об инструкции, предписывающей казнить бойкотируемых холодным молчанием, она огласила класс сорочьей скороговоркой, вцепившись в Гринькины патлы и раскачивая его голову так, словно бы это была не голова, а большая кормовая свекла, которую требовалось выдернуть из земли. Гриньке было и больно и смешно, как тому мальчишке, про которого он прочитал в каком-то стихотворении совсем недавно. В тщетной попытке вызволить голову из цепких, с остренькими ноготками, пальцев Шурки, он то хохотал, то ревел, как молодой бугай, то даже матюкался, но так, чтобы слышала одна лишь Шурка, то притворно призывал на выручку, оря во всю глотку: «Ка-ра-ул! Лю-ди добрые, спасите-е-е!» В ответ ему класс, будто только того и дожидался, разразился веселым, торжествующим воплем и угомонился лишь тогда, когда рассвирепевший Иван Павлович несколькими прыжками сократил до крайней степени расстояние сперва между собой и Ванькой, затем между собой и Гринькой и, взявши их за уши, соединивши таким образом, вывел за дверь. Когда же вернулся на свое преподавательское место, класс ожидающе примолк, изобразив нетерпеливую готовность внимать своему учителю.
Урок, однако, был скомкан. Удрученный Кот довел его кое-как, но не отменил бойкота, как следовало бы сделать по логике вещей: Иван Павлович слишком упрям и самолюбив для этого. Странная мера наказания была снята с Ваньки и Гриньки товарищами из рай-оно, которые как-то узнали о ней и не только отменили, а вынесли выговор Коту «за непедагогические действия». Очевидно, они имели в виду не только бойкот, но и рукоприкладство, к которому вынужден был, по старой привычке, прибегнуть учитель.
Чтобы загладить свою промашку и оправдаться перед районным отделом народного образования и отличиться перед местными руководителями, перед Ворониным прежде всего, а заодно подвергнуть ребят новым испытаниям, Иван Павлович создал из них агитбригады, с тем чтобы они обошли дворы особенно упрямых мужиков и уговорили последних вступить в колхоз.
Во главе одной из таких бригад оказался Гринька Музыкин, в нее Иван Павлович сознательно включил и Ваньку Жукова, решив, что это будет для обоих наказание похлестче бойкота. Но и тут хитрющий Кот ошибся. Он и не подозревал, что бойкот неожиданно сделает то, чего не могли сделать ни школа, ни сельсовет, ни родители, – он не только примирил вчерашних непримиримых, казалось, врагов, но и сблизил, сдружил их, как это нередко случается с людьми, на которых обрушится общее несчастье.
Оказавшись в одной агитбригаде, Гринька и Ванька ревностно взялись за работу. Перво-наперво Гринька решил наведаться к Якову Тверскову, прозванному почему-то Соловьем, хотя этот грубый, злой мужик даже отдаленно не напоминал сладкоголосую птицу; жуткий матерщинник и скандалист, охрипший от непрерывной ругани со своими домашними и соседями, которым не давал житья, он мог бы скорее сравниться с вороной. С соловьем же его роднило разве то, что Яков не давал покоя ни своим ближним, ни шабрам и по ночам булгачил их в самый поздний глухой час, подымал крик ни с того ни с сего, украшая полуночную свою речь редкими по сочности, изобретенными им самим многоступенчатыми ругательствами. К такому «соловью» не отважился прийти даже грозный Воронин: новый председатель был уже достаточно наслышан о Якове.
Но вот Гринька решил начать именно с него. Очевидно, этому решению способствовало то, что Яков был не только его, Гриньки, однофамильцем (Тверсковых, как и Ефремовых, насчитывалось в селе дворов сорок, если не больше), но и доводился дядей, поскольку был родным братом давно умершего Гринькиного отца, прозванного за пристрастие к балалайке и гармони Музыкиным (кличка эта впоследствии стала фамилией и вдовы, Гринькиной матери, и самого Гриньки).
– Дядю Яшу мы обязательно сагитируем. Он мой крестный! – решительно заявил Гринька, подбадривая и себя, и членов своей бригады, в особенности Миньку Архипова и Яньку Рубцова, не отличавшихся, как известно, храбростью. – А потом уж к твоему отцу пойдем, – и Гринька кивнул Яньке.
– Ххх…хорошо, – едва выговорил тот.
Перед самой калиткой Соловьева двора пионерская агитбригада принуждена была остановиться, встретившись с препятствием, о котором Гринька знал заранее, но помалкивал до поры до времени. Для встречи нежеланных гостей Яков вышел не сам, а спустил с цепи преогромного свирепого кобеля, который уже хрипел, бился в истерике, захлебываясь яростью за калиткой. Он бросался то в одну, то в другую сторону, просовывая то под калитку, то под ворота страшную клыкастую морду. Члены Гринькиной бригады испугались, опешили и отбежали на средину улицы, оставив своего предводителя одного. Гринька, бледный, сотрясаемый заячьей дрожью, изо всех сил заставлял себя держаться мужественно, пытался урезонить пса, все время меняя интонацию в своем голосе – то льстиво уговаривая зверя, то угрожая ему:
– Шарик, Шарунька, аль не признал?.. Это я, Гринька!.. Шарик, ну, перестань… што ты, в самом деле, с ума сошел?.. Да замолчи ты, сволота поганая!.. Вот возьму камень да кы-ы-к дам!..
Шарик, ростом с годовалого бычка, умолкал лишь для того, чтобы потом с новой, еще большей яростью кинуться на калитку, на ворота, на плетень. С разбегу он, пожалуй, мог бы и перемахнуть через изгородь, чего больше всего опасался Гринька, которого уже покидали остатки самообладания, но он все еще стоял у калитки, не зная зачем. Малость ободрился, когда к нему вернулся Ванька Жуков; в Ваньке, наверное, заговорила совесть или гордость, либо то и другое вместе, но вот он мужественно приблизился к плетню, за которым в эту минуту бесновался Шарик, и тоже вступил в переговоры со скандальной собакой:
– Ты, барбосина паршивая!.. Ты замолчишь когда-нибудь аль нет? Вот выдерну кол, тогда ты у меня запоешь по-другому! – и Ванька для острастки взялся за один из кольев, составлявших основу плетня.