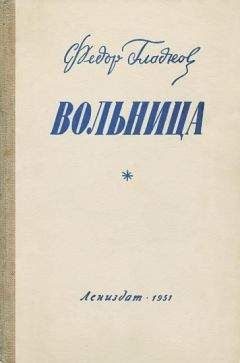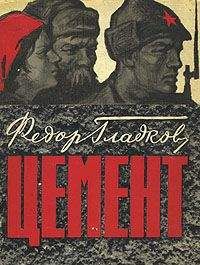Федор Гладков - Лихая година
Она с мягкой строгостью журила меня:
— Зачем ты об этом говоришь? Раз это тайна, то обязан молчать. А вдруг я нечаянно проговорюсь где-нибудь— кто будет виноват? Ты. Надо уметь тайны хранить.
Но я верил ей и всем своим существом чувствовал, что она — заодно с нашими мятежниками. В знающей её улыбке была такая ласковая теплота, такая умная проникновенность, что я пылко открывался перед нею:
— Я вам всё буду говорить. Ни перед кем слова не пророню, а перед вами ничего не утаю.
С тревожной задумчивостью она предупредила:
— Будьте с Ваней осторожны. Берегитесь. Есть недобрые люди, которые ради своих мерзких целей не пощадят и детей.
Как только заходил в комнатку Антон Макарыч, я вскакивал со стула, здоровался с ним и бросался к двери.
Он хватал меня за руку и дружески улыбался.
— Догадливость — родная сестра чуткости.
Эти его слова очень мне нравились: они звучали красиво, как песня или обрядная приговорка. Елена Григорьевна краснела, глаза её радостно сияли, и вся она становилась лёгкой, как будто крылатой. Она подлетала к Антону Макарычу и хватала его за руки.
— Наконец‑то!
И уже не видела меня. А я опрометью бежал к речке и низом, мимо колодца, через вётлы, торопился к пожарной, где играли в «чушки» или в «чкалку» мои товарищи. Меня они встречали завистливыми насмешками и обидными намёками. Миколька первый притворно удивлялся, прерывая игру:
— Глядите‑ка, ребятишки, у приблудной собачонки — хвост крючком и ушки на макушке!..
Сёма сердито стыдил меня:
— Эка, повадился к учительнице‑то… Аль не чуешь, дурак, что ты — надоеда? К ней люди приходят, а ты торчишь у неё, как нищий у порога.
Но Иванка, как верный друг, мужественно заступался за меня:
— Не робей, Федюк! Это они завистничают. Да мне и самому завидно. Хочется погостить у Елены Григорьевны, а тут и по праздникам в домашности вязнешь, как муха в киселе.
Но эти встречи расстраивали меня. Не Миколькины издёвочки, а упрёки Сёмы терзали меня. Мне стыдно было сознавать, что я назойливо надоедаю учительнице, что не сам я почувствовал это, а вот они, друзья мои, уже давно осудили меня. Они заняты работой, а я убегаю из дому к учительнице, чтобы понаслаждаться близостью к ней, не думая о том, что я мешаю ей и не даю отдохнуть свободно. Может быть, и Миколька и Иванка нашли бы время пойти к Елене Григорьевне, но они совестятся: не принято вваливаться в избу к соседям без нужды, а к учительнице и подавно.
Однажды я целую неделю после школы сидел дома или пропадал в кузнице и раздувал мехи. Потап стал молчаливый и какой‑то растерянный, как побитый, а Петька уже не покрикивал на него, хотя распоряжался здесь, как опытный и разумный хозяин. Потап, словно его работник, слушался его и робко спрашивал:
— Аль так, Петенька?
И сразу же соглашался:
— Ну, ежели так, перетакивать не буду.
С тоской в сердце я шёл к Кузярю, поднимаясь от колодца на гору, подальше от Костиной избы, чтобы Елена Григорьевна не увидела меня из окна. Кузярь обычно возился где‑нибудь под навесом над старыми отцовскими санями или над изношенным хомутом, или сгребал навоз.
Я помогал ему чистить двор, или тесал ему новые костыли на полозья, или вместе с ним ходил на гумно и тащил, как и он, на спине пухлую вязанку соломы на корм, лошадёнке и коровёнке. Как‑то он лукаво спросил меня:
— А почто к учительнице не идёшь? Она, чай, ждёт тебя…
Это был удар в самое сердце. Я бросил на землю свою вязанку и заорал:
— Чего ты ехидничаешь? Ежели драться хочешь, так давай!
Он с умненькой улыбочкой потушил мою вспышку:
— Чай, я шутейно, чудак… А драться нам нельзя: у нас с тобой — содружье. Да и выросли мы… Да и делов — до чёрта. Вот зимой, на святках, погреемся! Давай лучше сговоримся к Елене Григорьевне вместе заходить, когда велит. Я умею с ней разговаривать: она любит слушать и быль мою и небыль.
Я опять взвалил на спину солому и возмутился:
— Ну и привычка же у тебя — врать и врать! Какая тебе от этого спорынья?
Тут он сам сбросил свою вязанку соломы, и худенькое личишко вдруг стало острым, а глаза широко открылись и сверкнули от негодования. Он сжал кулаки и угрожающе шагнул ко мне.
— Ты на драку нарываешься, да? Это когда я врал?
Я тоже сбросил свою ношу и стал перед ним грудь в грудь.
— Про волков врал? Про грачей врал, что они тебя на своих крыльях спустили? Про цаплю врал?
Мы столкнулись с ним злыми взглядами и оба засмеялись.
— Я никогда не врал, а выдумывал. Сказки вот аль былины — враньё аль выдумка? Пушкин, Гоголь — врали они аль выдумывали? Скажи‑ка учительнице, что Гоголь врал про Вия да про Страшную месть — она тебя так оконфузит, что места не найдёшь. Ну, а ты про Ивана Буяныча рассказывал. Врал ты аль выдумку сказывал? Врут дураки и трусы, а выдумывают разные сказки даже в евангелье: помнишь, Христос Лазаря из гроба воскресил, из воды вино делал… Надо так выдумывать, чтобы сам будто своими глазами видал, да чтобы люди поверили. Ну, поднимай свою вязанку — пойдём! Ведь я выдумываю потому, что у меня из души прёт.
Он говорил так горячо и убедительно, что я был совсем обезоружен. Против его рассуждений и доводов нельзя было возражать. Он был поэт в душе и создавал всякие небылицы в лицах так правдиво и красочно, что сам был убеждён в их достоверности. В эти минуты он хорошел: карие его глаза закипали, весь он напрягался, а игрой лица и руками и всем телом очень живо изображал вымышленные события. Да, он не врал, а просто творил жизнь, преображал её по–своему. Он никогда не унывал и не жаловался, а только злился и ругался сквозь слёзы, если приходилось ему особенно тяжко. На его месте другой парнишка надорвался бы, бросил бы всё и убежал, куда глаза глядят. Но его поэтические вымыслы создавали сказочные образы, как действительность, и озаряли его жизнь мечтами и чудесными призраками. В его тяжёлой, безрадостной доле эти полудетские мечты рождались сами собою, как животворная сила.
XXV
В эти дни я иногда заходил к бабушке Анне. Я любил её, а небольные и певучие её стоны всегда манили меня, когда я вспоминал о ней. В этот период моего роста и познания жизни она представлялась мне иной, чем раньше. Мне было жалко её: добрая, ласковая, покорная деду, она никого не осуждала, всех оправдывала и только печально улыбалась.
— Уж больно люди‑то мучаются. Всем трудно, всем горько, никому бог не посылает радости. Не привечает нас господь, а только наказывает. Терпите, мол, людие, страдайте, в болезнях, в гладе, в слезах испытания переносите…
Я не понимал этой божьей жестокости, возмущался и спрашивал:
— А зачем это нужно богу? Разве ему любо, что люди мучаются? Бог‑то, верно, богатых любит, а не бедных.
Бабушка всплёскивала руками и со страхом в лице стонала:
— Да чего это ты мелешь‑то, богохульник? Вот бог‑то разгневается да в огонь тебя и посадит. Он тебе, как барану, рога собьёт.
Но не выдерживала благочестивого тона и тряслась от смеха всем своим рыхлым телом.
— Хорошо, что дедушка не слышит, он тебе вихры‑то надрал бы. На грех только наводишь, пострел.
А я смелел ещё больше:
— Да дедушка‑то с богом — старики… Они только и хотят, чтобы все им в ноги кланялись да были бы тише воды, ниже травы.
— Ох, не вольничай ты, окаянный! Перестань! А то и я рядом с тобой под перстом боговым буду.
Я смеялся и утешал её:
— Тебе бога‑то нечего бояться: ты сколь раз говорила, что с богородицей–заступницей по мытарствам ходишь. Вот баушка Паруша меня не стращает и сама не боится.
Бабушка Анна всю жизнь была рабой, и при «крепости» и сейчас, под тяжёлой властью деда. Она привыкла к этому безгласному рабству и считала, что баба и создана для того, чтобы быть покорной и кроткой слугой мужика и барина. Их власть — божье произволение. Вот почему она больно переживала развал семьи — уход отца, своевольство Сыгнея и призыв его в солдаты, а особенно непокорность Кати, которая сама выбрала себе жениха и не посчиталась с волей дедушки — владыки семьи. Одинокая, покинутая всеми, бабушка садилась под образа и, низко склонившись и опираясь локтями о колени, застывала надолго и скорбно и едва слышно пела одно и то же:
По грехам нашим господь посылат
Велику беду на нашу страну…
И начинала вопить про себя.
Я всегда чувствовал, что она нежно любит меня; когда я приходил к ней, она не отпускала меня от себя. А когда я долго не показывался, тосковала и молча плакала. Дедушка жил сам по себе и как будто не замечал её. Он бро–дил за гумнами по межам, или возился с Титом над сохой, бороной, сбруей, или лежал на печи. Отец с матерью не заходили к ним, словно речка навсегда отрезала нас от избы деда. Бабушка совсем не выходила из своего двора, и, хотя её тянуло проведать нас, ей не под силу было одолеть крутые спуски и подъёмы по слабости ног. Только изредка пробиралась она через задний двор к высокому глинистому обрыву над речкой и долго смотрела на нашу старенькую лачугу, вросшую в подошву горы. И, если выходила из избы мать, махала ей рукой.