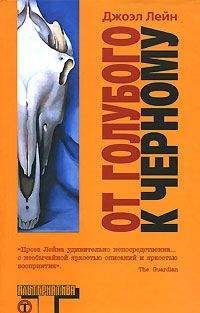Георгий Суфтин - След голубого песца
— Успокойтесь, гражданин, не надо волноваться, вредно...
Такого участия Лагей не ожидал. Он покорно сел на скамейку и осоловело уставился на Семечкина. А тот заботливо суетился вокруг незваного гостя, предлагал ему воды, успокаивал. Глянув на грудь Лагея, он восхищенно прищелкнул пальцами.
— Ах, сколько у вас значков, вся грудь в них.
Как ни расстроен был Лагей, а похвала ему понравилась. Он охотно стал рассказывать, где и когда приобрел каждый значок, прихвастнул, что, наверно, не только на Печоре, а и в дальних краях нет человека, у которого бы было столько значков. Лёва подтвердил, что, пожалуй, да. Тем окончательно расположил Лагея. Уж и чай задымился в кружках, беседа настроилась совсем на мирный лад, да вздумалось Лёве прочитать гостю своё стихотворение.
Приняв картинную позу, Лёва начал декламировать с ещё не остывшим пылом творческого вдохновения:
В тундре не было солнца... Кругом трава зеленела,
Ягель белый и сочный рос на широких просторах.
На головах оленьих зрели рога молодые.
Лебеди громко кричали, купаясь в чистых озерах.
Но не было солнца в тундре. Хотя большое и яркое,
Оно над тундрой ходило день и ночь без заката,
Только не видел кочевник солнечного сиянья,
Словно были закрыты глаза его черной заплатой.
Лагей слушал, не очень понимая, но ему нравилось, что вот русский белобровый парень поет ему сказку, этакую складную и, наверно, страшную — ишь как подвывает, головой трясет, глазами вертит. А Лёва старался вовсю.
И вот однажды весною ненец взглянул на солнце.
И сердце его впервые дрогнуло от восторга.
Будто горная птица, сердце затрепетало.
Перед глазами открылась к счастью большая дорога
Ненец увидел солнце!
— Ну как? — спросил Семечкин, окончив чтение.
— Шибко баско поёшь. Лучше Холиманки-шамана.
— Где Холиманке-шаману пропеть так. Ведь это про твоих пастухов. Про тех, которые стадо оставили, ушли в колхоз, — пояснил Лёва.
Лагей всю дорогу плевался и лупил хореем неповинных оленей. Обдурил белобровый сказочник, ой, как обдурил!
Глава тринадцатая
Празднество в Нарьян-Маре
1
В Нарьян-Маре готовились к празднику — Дню оленя. Дома украшались флагами и алыми полотнищами. На базарной площади сколачивали торговые ларьки. У входа на площадь, между кооперативом «Кочевник» и лоцвахтой, соорудили праздничную арку. Со всех сторон к городу подъезжали расцвеченные лентами оленьи упряжки. Из Большеземельской тундры, с Югорского Шара, с Тимана, Канина и Варандея спешили ненцы на большое торжество.
В городе становилось многолюдно. Учреждения полны посетителей. Ненцы толпами разгуливают по улицам. Носятся, как угорелые, кинооператоры, выискивают живописные группы и трещат, трещат своими неуклюжими аппаратами. Столичный художник в легком макинтоше, несмотря на мороз, коченеющей рукой делает бесчисленные зарисовки.
Праздник начался митингом. Многие впервые приехавшие в город оленеводы не столько слушали ораторов, сколько удивлялись многолюдью, любовались цветистыми украшениями, глядели на кинооператоров, стараясь разгадать, что они такое непонятное делают. А когда вспыхнула на Доме ненца иллюминация, — замигали, потухая и загораясь вновь, красные, голубые, зеленые лампочки, — площадь ахнула и замерла. Мастерство нарьян-марских монтеров получило всеобщее признание.
После митинга большая черная труба на арке хрипло прокричала по-ненецки и по-русски, что всем надо идти на Печору. Там будут гонки оленей.
— Какая толковая труба, — похвалил Вынукан, — всё знает. Куда идти, что делать — всё ей известно. Такую бы в тундре на вершину сопки поставить, пусть сказывает, где песцы, где лисицы есть, когда волки к стаду подбираются...
— К трубе ещё умного человека надо посадить. Кого? Тебя, пожалуй, Вынукан, ты бы смог...
— А что? Пусть посадят, скажу, чего знаю...
На Печоре, заметенной снегом, развевались флаги. Возле них стояли упряжки, готовые к выезду. Ездовые сидели на нартах, не выказывая нетерпения, а сами сгорали от досады, что начало затягивается. Песчаный откос заполнялся народом. Ребятишки облепили рыбацкие боты, поставленные на зимовку вдоль берега на деревянных клетках.
Ясовея разыскал Лаптандер.
— Выручи, учитель, гони упряжку. Колхозный ездовой руку вывихнул, не может ехать.
— Сам гони, а то, если отстану, по шее надаешь, пожалуй...
— Из меня гонщик уж не тот. Ты моложе, шустрее. Выручи! И отстанешь — ладно, только раз хореем стукну...
— Ежели только раз, то пусть, — засмеялся Ясовей, — где упряжка?..
Все приготовились. Хлопнул выстрел, взвилась ракета. Застоявшиеся оленьи пятерики рванули и понеслись в облаке снежной пыли. Ясовея охватило радостное ощущение быстроты и порыва. Он легко взмахивал хореем и твердо держал вожжу, чувствуя свободный бег передового, опытного и сильного оленя. Пелеи — пристяжные олени бежали ровно, подчиняясь своему вожаку. Туго натянутые постромки звенели, как струна. Было легко и весело. Горести и печали, казалось, остались позади, вон там, еле-еле видны... Ясовей оглянулся, привстал на нартах и крикнул от полноты души...
Вечером началось веселье в Доме ненца. Вдоль бревенчатых стен, завешенных цветистой материей, на длинных скамейках сидели степенные оленеводы со своими женами. Они наблюдали за плясками, которыми тешилась молодежь. Гармонисты лихо рвали свои гармошки, с величайшим усердием нажимая на басы.
Но вот на середину сцены поставили стол, покрытый скатертью с золотыми кистями. Наверно, будет собрание, догадывались оленеводы. Гармошки смолкли, и пляска остановилась. Из-за кулис вышел высокий, чуть сутулый ненец. Морщинистое лицо его было безбородо. Густая шапка стриженных в скобку черных волос покрывала его голову. Запутавшиеся в волосах оленьи шерстинки были похожи на проседь.
— Хо! Манзадей. Сказки сказывать будет, — узнали в зале.
— Ну-ну, спой хынос позабористее.
Мандазей смущенно улыбнулся, не очень уверенно сел на стул, потрогал пальцем микрофон. В зале поднялась суматоха, все кинулись вперед. Дальние напирали на ближних. Манзадей сидел и ждал. Постепенно зал примолк. Манзадей покачнулся вправо, потом влево и так, раскачиваясь, мерно и ровно запел. Вой ветра, заливистый лай собак, кряканье молодых оленей, снова вой ветра и звон бубенцов, и крик пастуха слышатся в ненецкой песне. Слушаешь её и видишь тундру, широкую, бескрайнюю, залитую стылым лунным светом. Манзадей поет, и голос его слегка дребезжит, как натянутая постромка. В такт покачиванию его кудлатой головы слегка покачиваются и слушатели.
Мать моя мне так сказала:
— Худоват ты, парень, очень.
Посторонних дел, мой милый,
На себя не принимай ты...
И тогда я ей ответил:
— Дай скорее мне одежду,
Чтобы малица по росту
И пимы с липтами тоже
Приходились по ноге мне.
Мать на корточках втащила
В чум большой мешок из кожи.
В нём одежды было много.
Тут я живо приоделся —
Всё отцовское наследье
В самый раз мне пригодилось.
Вышел я тогда из чума.
Взял с собой тынзей ременный.
Им я выловил из стада
Четырех быков. В упряжку
Черных, резвых, быстроногих
Четырех быков запряг я.
Пал на сани. Гикнул. Дружно
Понеслися вдаль олени.
Только сзади закружился
Столб до неба снежной пыли.
Ехал целый день. Под вечер
Чум у сопки заприметил.
В этом чуме старый Худи
Жил. Большой оленщик Худи.
Манзадей остановился, чтобы передохнуть и зарядиться понюшкой из медной табакерки.
— Чум видно стало. Передышку оленям надо дать, — пошутил он.
— Худи тебя, наверно, ждет, чайник кипятит, — откликнулись из зала.
— Те! И свежину на стол несет, гору, — подхватили ненцы.
— Вперед не забегать, — рассердился певец. — Песня сама вперед побежит...
И, понюхав еще раз, продолжал:
Я подъехал к чумовищу.
Где пристать моей упряжке?
Сто саней вокруг стояло.
И хореи — тоже сотня —
С передков торчали косо.
С краю я остановился.
Тихо шел. Собаки даже
Не услышали походки.
Приоткрыв легонько полог,
В чум пролез я осторожно,
Незаметно и неслышно.
Там народу было много.
Сколько? Сотня? Больше сотни!
На почетном месте, вижу,
Худи сам сидит с невестой.
Значит, свадьба в этом чуме —
Ум мой понял дело сразу,
Вот я выпил пару чашек
Русской водочки веселой,
Ползал по полу, кривляясь,
Грыз горячие уголья.
Не узнать вам, гости, Худи,
Не понять тебе, оленщик,
Что я пьян наполовину,
На вторую притворяюсь.
Скоро все заснули в чуме,
Не спала одна невеста...
В зале было тихо — слушали внимательно. Это внимание подбодряло Манзадея. Голос его окреп и дребезжал уже меньше. Песня лилась легче и свободнее.
Мы вдвоем с невестой были.
С нами третий — месяц в небе.
Только наши разговоры
Он, наверно, не расслышал.
— Увезу тебя. И будешь
Ты в моем хозяйкой чуме.
— У тебя оленей мало —
Ездить мне на чем придется?
— У меня быков три сотни.
— У тебя колоколов нет,
А без них какая свадьба.
— У меня их сколько хочешь...
— У тебя цветных нет сукон.
Чем я паницу украшу?
— Сукон красных, сукон синих
Не исшить тебе вовеки.
— У тебя лисиц пушистых
И песцовых шкурок нету...
— От пушной добычи сани
У меня трещат под кладью.
Мы на нарты враз уселись,
Я пустил передового
И запел на полный голос
Песню радостную — яребц.
А из чума смотрит Худи,
Разлепить глаза не может
По-хорошему спросонья.
— Эй, жених, твою невесту
Увожу я. Если жалко,
Поезжай за мною следом...
— От, дельной... Ну, дельной, — одобрительно крякнул Вынукан, забравшийся на сцену к самому столу, и, подмигнув, добавил: — Не хуже меня...