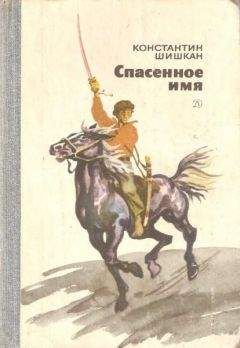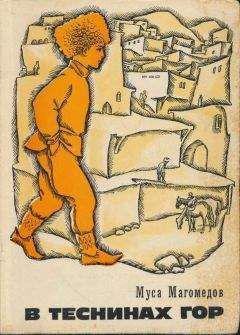Зоя Журавлева - Островитяне
— Уже на сегодня хватит, — усмехнулся Иргушин, чувствуя вдруг усталость. — План перевыполнен по всем показателям.
Но Агеев его не услышал.
— Я должен сказать, — торопливо продолжал он, — что Олег Миронов погиб по моей вине… То есть я хочу сказать, что он, может, остался бы тогда жив, если б не я… Если бы на моем месте был тогда другой…
— Что за ерунду ты плетешь, — сказал Иргушин тихо. И встал.
Теперь они стояли друг против друга. Иргушин смотрел на Агеева гневно, сверху, со своего роста. Невысокий Агеев поднял к нему лицо — бледное, лунное, с четкими клоунскими бровями, одна бровь — выше.
— К сожалению, это не ерунда, — быстро сказал Агеев. — Помнишь, я ведь первым за ним нырнул…
— Ну, — кивнул Иргушин. — Тебя едва выволокли, помню.
— А знаешь, почему мне вдруг стало худо?
— Знаю, — кивнул Иргушин. — Хлебнул воды, вот и стало.
Мучительно хотелось сейчас, чтобы этот человек замолчал.
— Нет, — Агеев засмеялся, как всхлипнул. Может быть — всхлипнул, как засмеялся. — Нет, я там увидел его, вот почему…
— Чушь, — сказал Иргушин, помедлив. — Я же сразу после тебя нырял, Костька… Если бы он там был — мы бы нашли…
Оба они сейчас избегали говорить «Олег» или «Миронов», говорили — «его», «он», будто так было легче, абстрактнее, будто это меняло дело.
— Там теченье, — сказал Агеев. — Пока со мной провозились, была задержка. Я тоже потом нырял, ты же помнишь! Но его уже не было. Только — в первый раз.
— Это тебе показалось, — сказал Иргушин сквозь зубы. — Наделал в штаны — и показалось.
— Нет, — сказал Агеев упрямо. — Я его видел.
Сколько раз за эти пять месяцев Агеев сам старался себя убедить, что тогда ему показалось. Даже — убеждал. На час. На день. На неделю. Но, даже убеждая, знал, что лжет сам себе. Потому что чем дальше, тем видел это яснее. Как было.
Мгновенный ожог воды, когда он нырнул. Стекленеющая сила воды под руками. Голубоватый, тускло просвечивающий лед прямо над головой. Крыша льда. Взмах руками. Еще. Агеев пошел челноком. Влево. Вправо. Еще правее. Почему-то режет глаза. Агеев зажмурился на секунду. На одну секунду. Еще рывок вправо. Открыл глаза. И впереди, чуть дальше, — не увидел даже, а скорее почувствовал что-то. Какой-то предмет. Так он тогда почему-то подумал, глупо, — мол, длинный предмет. Еще ближе…
Все-таки он его нашел. Миронова. И спасет. Еще один рывок. Так.
Прямо на Агеева — в упор, не мигая, с нечеловеческой пристальностью, неправдоподобно широкие, из кошмаров, из чьих-то кошмарных снов — смотрели сквозь воду глаза Олега…
Агеев дернулся, ударил об лед головой, рванулся назад, к майне. К воздуху. К свету. К жизни. Чьи-то руки его подхватили. И сколько-то он не помнил себя, хоть не терял сознания. А потом вырвался, снова — ожог воды, стеклянная пустота вокруг, неистовство собственного тела, которое Агеев швырял в воде с бешенством — направо, влево, сюда, теперь туда, кругом.
Еще и еще нырял. До исступленья.
Теперь бы он его вытащил. Живого. Мертвого. Но никого уже не было под водой. Только — вода.
Пустая вода…
— Что же ты тогда промолчал? — медленно выговорил Иргушин.
— Испугался, — сказал Агеев готовно, как мальчик.
Видно — долго готовился. Пять месяцев, срок.
Эта его готовность на секунду отрезвила Иргушнна. Но тотчас все снова в нем поднялось мутно и горячо, застилая глаза, Агеев раскачивался перед ним мутно, двоился.
— А теперь ты, значит, решил покаяться…
Иргушин выбросил впереди себя руку, ударил Агеева куда-то в скулу. Удар вышел сильный, потому что драться директор Иргушин умел, не забыл еще это дело. Ударил больной рукой, где палец был сломан. Палец сразу взялся свежей, буравящей болью.
Агеев отлетел в сторону, упал боком, будто сломался.
— Уходи, — хрипло сказал Иргушин.
Агеев поднялся, медленно пошел к лесу, черный и безгласный, как тень, шаткая, лунная тень среди зыбких, лунных деревьев. Слился с чернотой, растворился.
Иргушин глядел ему вслед, дергая рукой, будто стряхивая что-то с себя. Палец взялся крепко. Снова, что ли, сломал? Иргушин был сейчас благодарен пальцу за эту боль — живую, свежую, отрезвляющую.
Елизавета открыла дверь, сказала:
— Вроде ты с кем разговариваешь, Арсений?
— С тенью, — усмехнулся Иргушин.
— Я ложусь, — сообщила Елизавета. Засмеялась. Ушла.
— Сейчас, — сказал Иргушин, хоть дверь уже затворилась.
Но долго еще сидел. Пока не заснула жена Елизавета..
Пакля, неторопливо ступая, выбирая кочки посуше, шла по тропке к дому. Близко уж было, один поворот. Вдруг навострила уши, помяла губами в раздумье, на всякий случай свернула в бамбук. Стала там тихо, замедлив дыханье. Человек выскочил из-за поворота. Он бежал по тропе тяжелой рысью, ступая во тьме неловко, мимо кочек, был слеп в ночной темноте. Пробежал близко от Пакли, не заметив ее.
Пакля осторожно втянула носом, узнала старшего инженера Агеева, безразличного ей, чужого. Почувствовала от него беспокойство, торопливую суетность, резкий, неровный для нее запах — беспокойный. Фыркнула вслед. Вылезла из бамбука на тропку. Потрусила прямо домой не останавливаясь. От дому, нарастая для Пакли с каждым шагом, тянуло милым человеком Иргушиным, единственным для нее.
Так и есть — Иргушин сидел на крыльце. Ждал.
— Пришла, подруга, — сказал ей с лаской.
Но долго еще сидел так же, не шевелясь, чуть покачивая рукой. И кобыла Пакля стояла подле него смирно, со счастливой душой, чуть перекатывая во рту разную малость, травинки, прижимая уши беззвучно и ласкаясь к Иргушику всем своим хитрым и смирным видом…
Агеев добрался наконец до поселка.
Шел теперь главной улицей, вообще-то — единственной, петлявшей совместно с рекой Змейкой, повторявшей ее изгибы. В эту пору Агеев на улице был один. Шаги его по деревянному тротуару звучали громко, с деревянным раскатом. Вот уже поворот на цунами, пора сворачивать. Но Агеев на станцию не свернул. Прошел дальше. Миновал песчаный холм, обойдя его низом. Теперь — налево…
Знакомый дом темнел перед Агеевым, тихий, безмятежно замшелый. Восемь лет не был он в этом доме. Целую жизнь. И еще полчаса назад не думал, что когда-нибудь будет. Но так получилось, что сейчас ему вроде и некуда было идти, кроме этого дома. Невозможно было сейчас Агееву, прямо после Иргушина, вернуться на станцию. Увидеть холодные глаза Верочки, пробиваться сквозь этот холод, как он привык, объяснять что-то. Слышать доверчивое дыхание дочерей, покашливанье Филаретыча за стеной, бессонную качалку Ольги Мироновой.
Не было у Агеева сейчас сил на все это, ничего не было.
Он стукнул в знакомую дверь три раза — костяшками, как когда-то.
Мелкий стук вышел, слабый.
Но в доме, помедлив, засветилось окно. Невнятный шорох возник в глубине, будто кто-то двигался там с осторожностью, переступая через спящие ноги, боясь разбудить ненароком трудовую большую семью. Зашелестели босые ноги. Дверь медленно отворилась навстречу Агееву.
Клара Михайловна, придерживая халат на узкой груди, стояла перед ним на пороге.
— Ты пришел, Саша, — сказала Клара Михайловна.
Удивления не было в ее голосе. Будто Агеев пришел, как всегда, с работы. Поздновато, конечно, но так уж вышло. И она слегка извиняется перед ним, что вот заснула, не дождалась. И еще что-то было — тоска по нему, задавленная в себе, почти уже светлая, так это самой привычно за годы: тоска. Доверчивость, которой Агеев не заслужил. Стыдливость перед людьми, будто кто это видит, что нет у нее сейчас на Агеева ни — обиды, ни гордости. И смутная, неуверенная еще радость, запрятанная глубоко, что вот — он пришел наконец…
Но только эту радость и услышал Агеев, потому что очень нужна была сейчас Агееву ее радость.
Немолодая некрасивая женщина стояла перед ним на пороге, подавшись к нему костистым, плоским лицом. Уши ее, слишком крупные для лица, горели. Узкие руки держали халат крепко, комкая его на груди узлом. Агеев был, как никто, виноват перед этой женщиной, мало помнил о ней, жил своей жизнью. Но сейчас он любил эту женщину, как не любил никогда, потому что она любила сто все эти восемь лет. Теперь он знал это наверняка.
— Проходи, — сказала Клара Михайловна, отступая. И Агеев вошел молча, со стиснутым горлом. Неяркая лампа осветила знакомую комнату. Кровать была прикинута одеялом, но подушка хранила вмятость. Та же была кровать. Старое зеркало, чуть удлиняя черты, отразило в себе Агеева. Но он отвернулся от зеркала. Вязаный коврик из разноцветных ниток лежал под ногой привычно. Только занавески были чужие Агееву, новые. Да портрет висел над столом, раньше его не было. На портрете Клара Михайловна улыбалась с мечтательностью, полураскрытые губы ее казались свежи, наивны. Портрет молодил ее лет на двадцать, до юности.