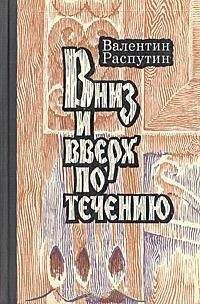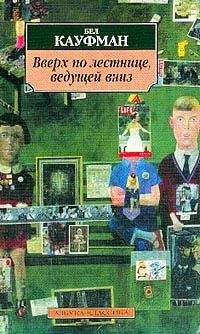Василе Василаке - Алба, отчинка моя…
И тогда он увидел мир глазами этого мальчика. Солнце уже закатилось, но полнеба все еще озарялось зарницами. Вдруг в этих блистающих отсветах и будка обходчика, и озеро, и поникшая нива ослепительно вспыхнули. Всего лишь миг длилась эта вспышка. Тут же яркие краски растаяли в быстро наступающих сумерках. Но чем больше смеркалось, тем ровней и величественней разгорались на небе Стожары. От потемневшего озера потянуло холодом, как из погреба. Наш путешественник поежился и вздохнул глубоко, не то с грустью, не то с облегчением. «Должно быть, в Албе, — подумал он, — хозяйки уже созывают к ужину своих домочадцев…»
2
…В текущем году мы запланировали ликвидировать все последствия посетившего нас стихийного бедствия — землетрясения. Вот закончим уборку кукурузы и всем миром возьмемся за строительство агрогородка. Село наше станет краше прежнего, это нам рассчитали и твердо обещали столичные архитекторы.
Строить начнем от двора Митруцы Хариги, вдоль большака и до самого озера. Дома будут двухэтажные, каменные. Прежде всего поселим здесь молодоженов.
Так что, уважаемые наши ребята и девушки, дело за вами! Вчера на концерте слышали? «С любви начинается и жизнь, и труд, и все остальное…» Может, кто-нибудь хочет поспорить со мной?
Из речи председателя колхоза «Бируинца» на общем собранииНу и голосок у этой Настики Хариги — иерихонская труба, честное слово!
— Цып-цып-цып, мои милые, цып-цып-цып, родные мои!
Аж воздух звенит!.. Впрочем, звенит он по-осеннему мягко, и дышится легко, и высохший листок вяза на паутинке повис и кружится, кружится так, что не стоит на него долго глядеть, голова ненароком закружится. Солнце еще не выкатилось до конца из-за колхозного сада. И вся птичья орава — поди разбери ее, своя или соседская! — разбрелась по закоулкам усадьбы и на зов не торопится. А то вдруг, передумав, на всех парах несется к Настике, заплетаясь в высокой картофельной ботве.
— Кыш, стервятники, пусть вас хозяйка кормит!.. — отгоняет она соседкиных кур.
Хозяйка — это Хрисуца Пырцану, с которой Настика уже лет двадцать как в ссоре из-за того, что та будто бы распустила слух по селу: дескать, нет уже в доме Настики того убранства, что было прежде…
В гору поднимается повозка, доверху нагруженная сухими стеблями подсолнухов. Повозку ведет Тудосе Митителу, насвистывая разудалую песню в лад стуку колес, и сухому шуршанию стеблей, и петушиному крику, и… отчаянному сердцебиению Настики. Казалось, еще немного — и не выдержит она, встанет посреди двора, подбоченясь, и крикнет через плетень Тудосе, да и всему белому свету:
— Провались она в тартарары, жизнь моя постылая, да вместе с тобой, Тудосе, ухарь мой разудалый!..
Возле самых ворот Тудосе попридержал вспотевшего мерина. Дорога здесь круто забирала наверх, а с тех пор как председатель в целях экономии и почти за полной ненадобностью перевел на подножный корм всю конную тягу, колхозный конюх Тудосе с особой почтительностью обращается со своей лошадью.
— Здравствуй, дорогая Настика, и дай-ка ведро, угощу своего битюга колодезной доброй водицей.
Настика опрометью бросилась во времянку, а Тудосе в ожидании прислонился спиной к калитке. «Навес-то у нее покривился, и крыльцо сгнило… Не лежит, видно, к хозяйству сердце Митруцы!..»
Георгины у крыльца повалены, а кое-где даже сапогами раздавлены, прямо посреди цветов стоит бочка с бродящим виноградным мустом.
— Много ли вина надавили?
— Да так, как и все люди… — чуть слышно и словно бы через силу произносит Настика.
— Кыш, сатана, поймаю сейчас и голову оторву! — что есть мочи завопила она, присела, развела руки — и, казалось, вот-вот сама закудахчет, как эта, шарахнувшаяся от нее, курица.
Поит лошадь Тудосе за воротами у колодца. Очертя голову мечется по дому Настика — то во времянке, то на дворе…
— Совсем забыла, зачем шла… — шепчет она потерянно, срывая с себя линялый передник, и трет лицо рукой, и прячет поределые пряди волос под косынку, и невольно ищет на зеркальной поверхности умывальника свое отражение.
— Вот, Настика, с благодарностью возвращаю.
Тудосе вносит во двор, не расплескивая, ведро, полное до краев, ибо так принято: берешь ведро пустым — возврати его полным. И хотя Настика выбежала навстречу ему, он пронес его до самого дома и поставил на лавку. Здесь, в сенях, где царствовала полутьма, Тудосе чуточку осмелел.
— Вдовствуешь помаленьку?.. — как-то уж очень прямо, по-родственному спросил он, и за руку взял, и в глаза заглянул, и даже чуточку усмехнулся.
Коленки у Настики задрожали, голос пропал, а лицо алыми пятнами пошло.
— На слете… знатных табаководов… послезавтра вернется, — с отчаянием вырвала она у него свою руку, схватила кружку, метнулась во двор и уже оттуда, с воли, ему кричит: — Выпей, Тудосе, кружечку муста… А то жду хозяина, жду и никак не дождусь!
Тудосе не заставил себя дважды просить, вышел, взял кружку, отпил, да и думает про себя: «Эх, никогда-то в тебе настоящей смелости не было, а если б смелость была, то все было б не так и была б ты моей…» — и со смаком сдувает с муста кровавую пену.
— От твоего муста запьянеть можно, дорогая Настика, — причмокивает губами Тудосе и, долив кружку доверху, спрашивает: — Стало быть, твой еще одну грамоту привезет?
— Да у меня уже ими полон сундук. — И без всякого перехода: — Ох, сатана, нет на тебя Митруцы! Обожди, вот вернется и, ей-богу, зарежет… — это уже относилось к соседскому борову, который с веселым хрюканьем принялся было подрывать забор. И снова к Тудосе, с просветлевшим лицом и сияющими глазами:
— Знаешь, Митруца такой человек, у которого всегда все в порядке. Везет ему…
Говорит она это легко и безжалостно, словно не о собственном муже, а о каком-нибудь чужом, совсем пропащем человеке.
— Даже говорить скучно. Расскажи лучше ты, как у вас, молодых…
Настика хохочет, и от этого лицо ее делается красивым по-девичьи, да и как же ей не смеяться, когда все село, весь район потешается над Рарицей, бывшей женой Тудосе. Она, умница, в сельсовет прибежала и пожаловалась, что субботними вечерами Тудосе уже не сидит дома с детьми, а пропадает с какой-то халявой, только что закончившей школу.
В райгоркомхозе, где тогда работал Тудосе, его собирались продрать с песочком и помиловать, а он — садовая голова! — бросил жену венчанную, двух дочерей-невест, сына-малютку, службу и со своей молодкой сошелся.
— Неужто сама забыла, как оно бывает в первое время? — скалит зубы Тудосе и готов еще словцо соленое бросить, да уже не решается, потому как Настика нахмурилась и вот-вот готова заплакать:
— Будь я на месте деток твоих, ох, Тудосе, задала б тебе трепку!
— В самом деле? А ну задай, не стесняйся!..
Настика, махнув на него рукой, поднимается на крыльцо, и Тудосе прощается:
— Спасибо, хозяюшка, за муст и за воду… — и выходит через калитку вразвалочку, такая уж у него образовалась походка.
Они ее когда-то всем седьмым классом усваивали, эту вкрадчивую кошачью поступь, по семи сеансов подряд высиживая на «Великолепной семерке»… За воротами Тудосе долго топчется возле повозки, наконец, стегнув конягу кнутом, медленно отъезжает.
Настика долго провожает его взглядом, и все-то ей до последней черточки ясно: оттого ссутулился и втянул голову в плечи бравый Тудосе, что через четыре двора его бывший дом; жена и дети увидят, соседи увидят, как везет он топливо другой, и посмотрят на него так, что не дай бог никому.
— Ох, запрягла тебя молодуха! — вздыхает Настика. И горько-то ей, и жалко его, и обидно, и отчего-то приятно. Откуда такое странное чувство, она и сама толком не знает. — Смотри, дойдешь ты до ручки… Туда тебе и дорога, глупый Тудосе, — говорит она это так, будто Тудосе еще стоит перед ней… Но почему-то ей не легче от этого…
Мимо дома на большой скорости мчит грузовик, полный народа, он немилосердно тарахтит и гудит, и какая-то девушка в нем визжит от восторга. Настика провожает машину глазами и замечает, что сидящие в кузове пожилые крестьяне с насмешкой рассматривают ее дом, голый вяз, срубленный на стропила для погреба, как раз накануне землетрясения, — он так и остался лежать у дороги.
«И почему не дал бог пожара на этот дом, и почему землетрясение его обошло!» — думает она так, словно это не ее достояние, а вражья крепость, и будто бы не она сама в девках о таком доме мечтала, чтобы был он пригожий да крепкий, стоял бы лицом на дорогу, с гребешками и завитушками на открытом крыльце; будто не сама высадила полгектара виноградника и фруктового сада, не сама взрастила у калитки две красавицы липы и грушу дюшес, а у самой дороги — этот вяз необъятный, такой могучий да ладный, что не уставала она любоваться его вечно шумящей листвой.