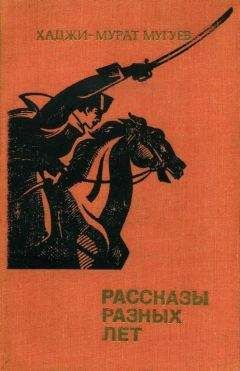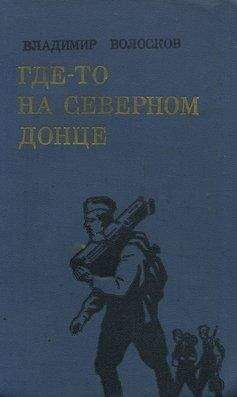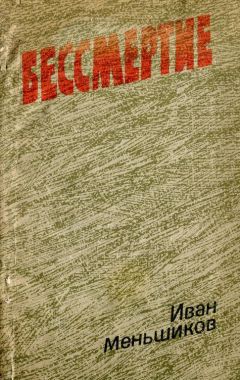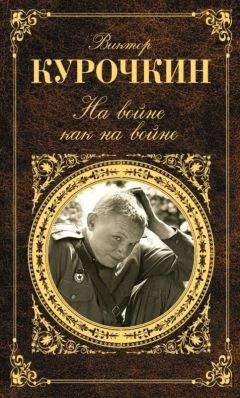Василий Оглоблин - Кукушкины слезы
— Вот это курево! Елки-палки, дух захватывает. Не хуже нашей черкасской махорки. Как сигареты называются?
— Честерфилд.
— Вот это курево!
— Вот спасибочки так спасибочки, отвели душу...
— Идемте, господин офицер, — пригласил вынырнувший из темноты заключенный, — товарищ командир батальона ждет вас.
— Какой он тебе, Ванька, господин? Он нашенский, на нарах с нами вместе валялся, баланду фашистскую вместе с нами ел, на аппеле на поверках стоял.
— Да ну?
— Точно тебе говорю, рядом со мной в сорок четвертом блоке лежал, на одних нарах, а ты — господин, ну и сказанул тоже, как в лужу...
— Заливай да оглядывайся, он вот всыплет тебе нашенских.
— Не веришь? Спроси. Серега, вправь ему мозги, пусть больше не обижает тебя, не называет господином...
Бакукин слушал и улыбался: вот он, русский человек, только что из волчьей пасти чудом вырвался, а уже балагурит, безобидно врет один другому...
Шли долго. Огибали длинные приземистые здания, выходили на аккуратно посыпанные мелким гравием аллеи, снова сворачивали в какие-то закоулки. Комната, в которую ввели Бакукина, напоминала канцелярию. С правой стороны, у стены, спали вповалку вооруженные люди в полосатой форме. В переднем углу за столом сидел, уронив в ладони крупную остриженную голову, большой широкоплечий человек. Сбоку на столе лежали немецкий автомат и две гранаты.
— Офицер связи третьей ударной армии лейтенант Бакукин, — отрекомендовался Сергей. — Прибыл по особому заданию штаба.
— А? Что? Да, да...
Сидящий за столом человек энергично вскинул голову, изумленно, широко раскрытыми глазами смотрел на вошедшего, встряхнулся, прогоняя сон, и вдруг усталое лицо озарила радость:
— Сережка, да ты, что ли?
— Я, товарищ капитан, собственной персоной.
— Вот это встреча! — Он вскочил из-за стола. — Черт подери! А говорят, чудес на свете не бывает. Да разве это не чудо? Садись, рассказывай. О делах потом. Я ведь тебя все это время мертвым считал. Ведь летом прошлого года ходили по лагерю слухи, что ваша команда «калькум» подорвалась на бомбе и вся погибла вместе с охраной. Враки, что ли, были?
— Не знаю, Алеша, может, и правда, что подорвалась. Я из нее сбежал. В конце июля прошлого года.
— Вот оно что. Счастливчик. А ребята все погибли. Это точно. Там же все немцы были.
— Все, кроме меня и чеха Влацека.
— Да, да. Говорили ребята из арбайтстатистики, что извещения о смерти на немцев были отправлены родственникам: «Погиб от взрыва бомбы». Думал я, что и ты погиб, а ты вон какой! Господин американский офицер. Умора... Командуешь-то хоть чем?
— Ротой, Алеша.
— Да ну? Роту доверили русскому?
— Доверили. Так случилось. Отличился в Вогезах. Орденом наградили. Роту дали. Командую, ничего. Язык только плоховато знаю. Учу. А ребята в роте отличные. Все негры.
— Ну и дела. Рассказывай, рассказывай все по порядку, дорогой ты мой человек...
...А когда над землей всплыло солнце нового дня, Бакукин и Русанов сидели в американском джипе, спускаясь с залитой светом горы Эттерсберг по той же каменистой дороге, по которой ехал Бакукин сюда ночью. Говорили и не могли наговориться.
РАССКАЗЫ
СУЛИКО
В ранней предгрозовой юности, казавшейся вечным весенним праздником, младшая сестренка Клара часто напевала мне нежную и печальную грузинскую песенку «Сулико»:
Я могилу милой искал,
Сердце мне томила тоска.
Сердцу без любви нелегко,
Где же ты, моя Сулико?
Но вскоре жизнь напомнила мне об этой песенке...
Проснулся я внезапно, так просыпаются только от сильного грозового разряда, расколовшего небо над головой. На липком холодном лбу лежала мягкая теплая рука. Больно слепила глаза белизна халата. Добрый голос звучал тоже мягко, ненадоедливо:
— Опомнился? Вот и хорошо. Сильный ты. Я знал, что ты воскреснешь.
Надо мной склонились большие серо-голубые глаза. Они ласково сияли теплым дрожащим светом, и казалось, грели, излучали теплые лучи.
— А?
— Говорю, хорошо. Ты все помнишь, что с тобой было?
— Помню. Секли на «козлах». Кнут. Профессор.
— Профессора уже нет. Он выдержал только сорок семь ударов. У него разорвалось сердце. А у тебя железное здоровье.
— Болит во мне все.
— Полежи, полежи спокойно, пройдет.
— Это — ревир?
— Да. Ты в ревире. А я — русский доктор.
— Сулико?
— Верно. Разве ты что-нибудь уже слышал обо мне?
— Слышал. Разное.
В глубине его светлых добрых глаз на мгновение вспыхнуло и тут же потухло что-то загадочное, словно он хотел впустить меня в свою душу, но вовремя опомнился и захлопнул двери.
Мы долго молчали. Он беспокойно оглядывался по сторонам.
— Как вас зовут? — спросил я.
— У меня, как и у всех нас, нет имени. Зови, как все, ты же знаешь мое имя — доктор Сулико. Помнишь: «Я могилу милой искал, сердце мне томила тоска». Ну вот и все. А ты обязан выжить.
Он грустно улыбнулся, погладил слипшиеся волосы на моем лбу и ушел бесшумной походкой, высокий, спокойный.
Никто не знал его настоящего имени. В разношерстном, многоязыком лагере все называли этого человека — доктор Сулико. Одни произносили его имя любовно, с нежностью, другие — с плохо скрываемой неприязнью, третьи — с откровенной и грубой ненавистью. Многие исподтишка едко злословили в его адрес, называя и шкурой, и немецкой шлюхой; но стоило ему появиться, как все прикусывали языки, никто не посмел высказать своего негодования вслух.
Был он высок, атлетически сложен и очень красив. Что-то женское, даже девичье было в красоте его лица, в стремительном разлете бровей, в нежных вьющихся волосах цвета ржаной соломы. Особенно выразительными были его глаза, огромные, серо-голубые. Ходил он по палате гордой, независимой походкой, обычно заложив руки назад и, как правило, всегда в сопровождении немецких врачей. Его белое, с еле приметным румянцем лицо было всегда строгим и сосредоточенным. Говорил он мало, не торопясь, словно, прежде чем сказать, тщательно просеивал слова. Никто никогда не видел на его лице подобия улыбки или усмешки. И только в глазах, пристальных и усталых, пронзительно вспыхивала иногда такая острая печаль, что в них больно было смотреть. Немецкие врачи и даже крупные эсэсовские офицеры относились к нему с подчеркнутой вежливостью. Поговаривали, будто он искусной операцией воскресил из мертвых какого-то крупного фашистского главаря из Берлина. И многие еще легенды слоились вокруг таинственного имени русского заключенного.
«Но ведь он открыто прислуживает нашим палачам, он лобызается с эсэсовцами, водит с ними тесную дружбу, — грустно думал я, проводив его глазами, — значит, он наш враг, он подлый, ничтожный человечишко, ведущий ради спасения своей красивой шкуры двойную игру...»
Вскоре после ухода доктора Сулико к моим нарам подошел санитар и, глядя в потолок, сказал коротко:
— Ходить можешь?
— Попробую.
— Или подать носилки?
— Попробую сам.
— Тогда собирайся.
— Куда? — осмелился спросить я.
— Приказано в тифозный блок сплавить. Тиф у тебя обнаружен.
— Тиф? Какой тиф? Доктор Сулико только что...
— Сказано, собирайся. Да поживее. «Доктор Сулико, доктор Сулико», он и приказал перевести тебя, полуживого, в тифозный, холуй эсэсовский, а еще земляк называется.
И, опустив подернутые мутной цвелью усталые глаза, негромко выругался по-польски:
— Пся крев...
— Тьфу ты, черт! — бурчал я, собираясь. — Тифа мне только еще и не доставало. Пожалел волк кобылу — оставил хвост да гриву. Только прикидывается добреньким, по головке гладит, утешает, а сам и нашим и вашим, в тифозку приказал спихнуть, чтобы подох там быстрее...
Голому собраться — подпоясаться. Я застегнул на все пуговицы куртку, обул деревянные колодки, с сожалением оглядел палату, тихо и сносно тут было, и поковылял за санитаром.
— Значит, он приказал? — переспросил я.
— Он лично. С чертями якшается, а богу свечку ставит. Видел, как он жалел тебя, да жалость-то ихняя — плюнь да разотри, сволочи они все. А еще в белых халатах ходят...
Положили меня на четвертый ярус нар рядом с метавшимся в бреду австрийцем. Перед глазами низко нависал прокопченный дочерна потолок с живыми нитями паутины, слева и справа — стоны умирающих, посвистывал в щелях ветер, шлепал по крыше нудный дождь, и потекли обреченно и горячечно тифозные дни и ночи.
А на четвертые сутки жизни в тифозном блоке снова встретился с доктором Сулико. Случилось это ранним утром. Из подслеповатых окон по палате боязливо расползался чахлый свет сырого рассвета. Палата со стоном ворочалась, чесалась, надсадно и хрипло кашляла. Санитары тусклыми, равнодушными взглядами осматривали нары и выносили умерших за ночь. В такие минуты в палате стояла непроницаемая тишина, даже кашлять переставали, все приподнимали головы и прощались молча с уходящими.