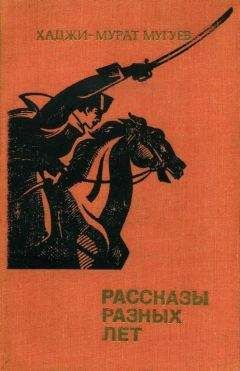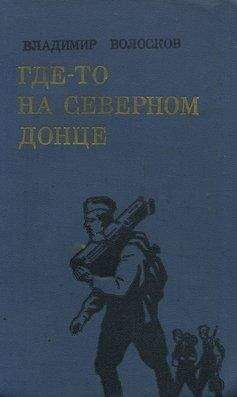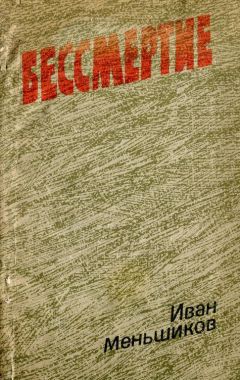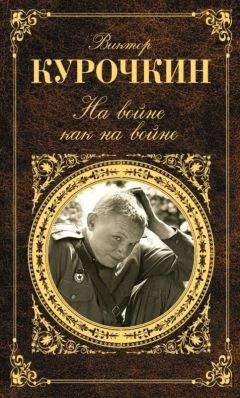Василий Оглоблин - Кукушкины слезы
— Восьмого апреля, — тихо продолжал парень, — в одиннадцать часов утра, репродукторы лагеря прохрипели приказ коменданта оберфюрера Германа Пистера: в двенадцать часов всему лагерю построиться на аппельплаце с вещами для всеобщей эвакуации. К нам в блок прибежал какой-то парень и прочитал воззвание: «Никому на плац добровольно не выходить, эвакуация — это смерть». Подпись под воззванием: «лагерный подпольный центр». А мы и не знали до этого, что есть какой-то подпольный центр.
— Я, ребята, знал, — вставил Бакукин, — есть такой в Бухенвальде подпольный центр. Руководит им немец Вальтер Бартель. А из наших ребят там Николай Симаков, Бакий Назиров, Смирнов. Говорили мне об этом мои друзья.
— Ну вот видишь, ты, выходит, больше нашего-то знаешь. Вот, ладно, прошел час, тишина в лагере сгустилась до того, что в ушах с непривычки зазвенело. На аппельплац никто не вышел. Все сидели по блокам. Ребята ломали нары, запасались палками, железными прутьями — всем, чем можно было обороняться.
— Против пулеметов и орудий? — робко прервал его Бакукин.
— А что? И против пулеметов. Нас много было. Ждем, что будет дале. По радио раздался новый приказ коменданта. Он дал на сборы два часа и предупредил, что если через два часа лагерь не выстроится на плацу, он применит оружие. Истекли и эти два часа. Завыли сирены. Распахнулись угловые ворота, и в лагерь ворвался батальон мотоциклистов-автоматчиков. Они открыли стрельбу по блокам. Мотоциклистов сопровождали легкие броневики с пулеметами и пушками. Из центральных ворот в лагерь хлынули эсэсовские сотни с автоматами, станковыми пулеметами и фаустпатронами. Ой, что там было...
— Это было восьмого в обед?
— В два часа дня.
Бакукин вспомнил о радиограмме, она была принята радистом восьмого апреля в два часа дня. Вот, оказывается, что творилось в лагере в это время.
— Мы радиограмму в это время получили от подпольного центра с призывом о помощи. — Бакукин посмотрел на батальонного командира, потом снова обратился к парню: — Ну, ну, что же потом?
— Потом? Потом ад был кромешный, да и то в аду, наверно, слаще. Эсэсовцы врывались в блоки, стреляли, выгоняли заключенных и под усиленным конвоем гнали на плац. С наступлением темноты они покинули лагерь — ночью быть среди нас они уже боялись. В числе согнанных оказались и мы, и те, что горят теперь на рельсах. Вечером нас погрузили в вагоны на станции Бухенвальд и повезли. Ни пайка, ни воды на дорогу не дали. Повезли, как скот на бойню... И вот — привезли...
Он посмотрел невидящими глазами на гору трупов, на горящих товарищей, добавил совсем тихо:
— А что теперь там и не знаю.
— Усих, мабуть, вже порешили, — вставил старик с мишенью, тупо глядя в землю, — усих до одного.
— Целые сутки, — продолжал парень, — мы сидели в закрытых вагонах, вслушиваясь в то, что происходит за стенами. Через каждые минут десять-пятнадцать тишину рвали пулеметные очереди. Мы знали — расстреливают. Потом в щели вагона стал проникать так знакомый по лагерю запах горящих человеческих волос. Многие сошли с ума. В нашем вагоне почти половина людей умерли еще в дороге. Вот какие, братец, дела. А ты говоришь, был в Бухенвальде.
— Был.
— Кого там знаешь или знал?
— Многих знал. Степу Бердникова, Луи Гюмниха, старостой он был в нашем блоке.
— А в каком же в вашем?
— В шестьдесят первом. В малом лагере. Сомневаешься, не веришь?
— Верю. Теперь верю. Кого же еще знал?
— Ваню Лысенко, Борю Сироткина, а самым близким был Алеша Русанов, капитан, мой однополчанин.
— Русанов? Алексей? Знаю хорошо. В сорок четвертом вместе на нарах валялись... как же... знаю, знаю. Был там. Живой был. А теперь — кто знает.
— Усих порешили доси, — вставил опять старик.
— Неведомо.
Старший офицер, потрясенный услышанным, попросил Бакукина спросить, есть ли в лагере американцы.
— Е и хранцузы, и английци, и американци, — ответил старик, — уси е, богатьско. Ентих, самых маленьких, чумазых, як воны звуться, богатьско.
— Итальянцы? !
— Воны, воны, италийцы, богатьско е италийцев, принцесса ихняя, италийська, даже е, бачив одного разу, смуглява, гарна, чудно якось зветься.
— Мафальда, — уточнил парень, — дочь короля Эммануила.
— Так, так.
— Даже принцесса? — изумился офицер.
— Там уси е.
Офицер распорядился выдать всем по бутылке виски, суточный паек питания, накормить горячим и отправить в тыл, в ближайший полевой госпиталь. Уцелевшие, а их было человек семьдесят, не веря чуду, пошли тесной кучкой за офицером и все время озирались на костры. Их погрузили в «студебеккеры» и увезли. А наверху, обочь дороги, в изножье у лесистой горы, была вырыта солдатами Бакукина стометровая траншея, в нее сложили гору несожженных трупов, закопали под залпы артиллерийского салюта, и вырос длинный холм каменистой тюрингской земли — еще одна безымянная могила, каких раскидано по всей Европе, по всей земле-матушке неисчислимое множество.
Колонна пошла дальше. Бакукин снова сидел на переднем сиденье джипа, положив автомат на колени, а в ушах все еще скрипел торопливый, дребезжащий бормоток русского парня, прошедшего через ад. И он был где-то тут, совсем рядом, этот ад — истекающий кровью Бухенвальд.
Глава седьмая
Над деревушкой Хоттельштедт, где по приказу был назначен ночлег и отдых, дрожало голубое зыбкое марево. Земля дышала умиротворенно и легко, источая животворный весенний дух. Сладко пахло прогретым наземом, и в воздухе с торжественным, с раннего детства знакомым Сергею, криком кружились стаи грачей. Бакукин очнулся от оцепенения и огляделся. Сгущалась вечерняя дремотная тишина. И вдруг в голубых весенних сумерках головной дозор колонны обстреляли из пулеметов и автоматов. Колонна остановилась, спешилась. Метрах в пятидесяти от дороги на небольшой лесной прогалине перебегали от дерева к дереву десятка два-три фашистов.
— Добьем гадов! За мной! — крикнул Бакукин и бросился к лесу.
Короткие стремительные перебежки, перестрелка — группа была уничтожена. Бакукин подходил от одного убитого к другому. Все они были в черной эсэсовской форме. Все офицеры. У них были два ящика со взрывчаткой, станковые пулеметы и канистры с бензином.
Последним из густого подлеска выбежал высокий сухопарый офицер. Бакукин вскинул автомат и ждал, наблюдая за эсэсовцем. Тот был страшен. Ворот кителя разорван, рукава засучены выше локтей. Он дико огляделся, с минуту постоял, сильно пошатываясь, и пошел рывками в сторону дороги. Не дойдя десяток шагов до колонны, он резко повернулся в сторону полянки, где валялись его убитые товарищи, и выстрелил из парабеллума себе в рот...
Колонна пошла дальше. Перед глазами Бакукина открылась величественная панорама. Горы расступились, и между ними глубоко внизу расстилалась подернутая вечерней сутеменью зеленая долина с бурной речушкой посередине, оседланной горбатым каменным мостом. В изножье у трех гор, чуть на возвышении, стоял большой белый дворец с массивными колоннами, а еще выше, на отножине густого темнеющего леса, робко прицепилась ажурная каменная часовенка с острым шпилем на куполообразной крыше. Судя по огромным белым крестам, это был госпиталь. Колонна свернула вниз, в долину, к белому дворцу.
И большой белый дом, и прилегающий к нему с задворков двухэтажный деревянный особнячок с мезонином в русском стиле, и ажурная часовенка, и озирающаяся из темной зелени густо натыканными черепичными крышами деревенька встретили запрудившие долину джипы, танки, самоходки, «студебеккеры» и массу крикливых вооруженных людей подозрительной тишиной. В долине, подернутой синей дрожащей кисеей, покоилось такое мирное, ничем не нарушаемое сумеречье, как будто не было и в помине ни войны, ни смерти, ни костров, на которых жарились расстрелянные заключенные из концлагеря Бухенвальд. Над темнеющей горой зажглась и несмело затрепетала первая неясная звездочка, от горной речушки поплыл в небо жидкий туманец, горы погружались в темноту.
Бакукин получил приказание обследовать дворец. Взяв с собой полувзвод автоматчиков, он стал осторожно подниматься по мраморной лестнице. Двухстворчатая массивная парадная дверь была распахнута. На зеркально сверкающем паркете вестибюля он увидел отпечатанные кровавые следы солдатских сапог. Огляделся по сторонам и сразу же увидел справа, около гардероба, убитую девушку. Она лежала навзничь, раскинув мраморно-белые ноги. Белый колпак с красным крестом валялся около неловко запрокинутой красивой головки, белый халат был в крови. На лестнице, ведущей наверх, в неудобной позе сидела, низко уронив седую голову, вторая женщина, тоже в белом халате и в белой косынке. В ногах у нее, на ступени, валялись шприц и неразбитая ампула. Ледяной озноб пробежал по спине Бакукина. Шевельнулась мысль: «Неужели и тут то же, что в каменоломне? Там были заключенные, а здесь? Кто же здесь? Раненые?...» Солдаты-негры дико озирались по сторонам и нерешительно следовали за командиром.