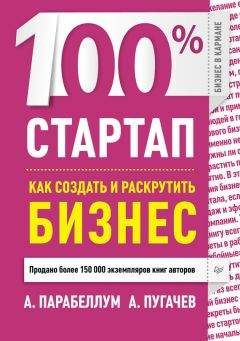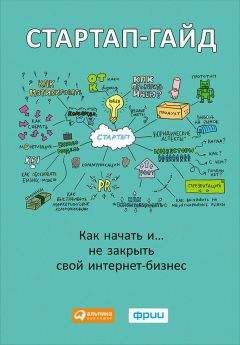Сергей Сартаков. - Философский камень. Книга 2
Федор с наслаждением разминал словно бы стянутые веревками плечи, так они занемели от долгого ползания.
Он стоял на склоне невысокой сопки, очень похожей на те, что остались сейчас за спиной. Что же, послезавтра вернуться? Назад, к Тарасову, к Ямагути, которые все равно никогда по-настоящему не поверят ему, а будут только посылать, на самые опасные дела. Вот он счастливо пересек эту границу. Встретится ли снова такая возможность? Даже с хорошей легендой, придуманной самим Ямагути.
Вглядывался в глухую темень ветреной ночи и соображал, в какую сторону ему лучше направить первые шаги.
Земля эта не манила Федора своим теплом. Солдат пришел не беречь, не лелеять ее. Она для него чужая. Но все же носить eгo она должна. И пусть пока не знает эта земля, что Федор для нее тоже чужой.
Куда пойти? Ну, подскажи, земля!
Что ж ты молчишь? Или ты так и будешь немая?
26
От керосиновой лампы с надетым прямо на стекло бумажным абажуром падал на стол неровный круг желтого, усталого света. Пахло паленой бумагой и типографской краской, абажур сделан был из газеты. И оттого, что световое пятно занимало даже на столе совсем малюсенькое место, казалось, что ни стен, ни потолка в комнате вовсе нет, а над головою и за спиной открытое, бескрайное, холодное пространство.
Набросив на плечи куртку и зябко поеживаясь, хотя в комнате было тепло, Мардарий Сидорович сидел и писал письмо Тимофею. Времени он не замечал, хотелось поговорить с хорошим другом, высказать все, и листы бумаги, крупно исписанные с обеих сторон, заменяли ему сейчас живой разговор.
«Здравствуй, Тимофей, Тимофей Павлович! — писал Мешков. — Ну, вот и похоронил я позавчера свою Полину. Рука моя вздрагивает, когда я пишу тебе эти слова, и дышать нечем. Спроси, почему я остался? Зачем я остался? Такого не думалось мне никогда, что стану я кидать сыпучий песок на ее могилу. Оно так, люди живут вместе, а умирают поврозь, только нам и помереть надо бы вместе. Один я теперь — все равно, что нет меня на этом свете. Говорят: привыкать надо… привыкнешь. К чему привыкать-то? Были мы с Полиной друг к другу, привыкшие. А к одному: себе чего привыкать? Тянуть надо. Буду тянуть.
Понятно, когда самые тяжелые эти дни я перемучаюсь, стану работать снова, как было, может, и посмеюсь веселому слову когда, но тому, что сломилось внутри у меня, уже не поправиться. И это горе-тоску до своего гроба буду носить с собой. Не шутка же это — отнять у человека самое дорогое. А дороже Полины никого на свете у меня не было. Умерла бы еще сама, а то ведь отняли, отняли, звери, враги проклятые!
Расскажу я тебе, сейчас: долго страдала она, а скончалась при полном сознании, тихо. В последний ее час мы даже и поговорили. Все оставляла она меня жить на земле, хорошей жизни для меня просила. А жизнь хорошая — это что, это просто во всем честным быть человеком. Тогда никакая ни грязь, ни хула к тебе не пристанет. Это будет жизнь твоя для других. А себе, в чем себе-то жизнь хорошая будет, если в дом придешь, а вокруг тебя пусто?
О тебе тоже говорила Полина, сам ты знаешь, с каким верным сердцем она всегда была к тебе. Очень просила она, чтобы ты сейчас поберегся, по горячности своей сам себе новой беды не наделал бы. Пропади он пропадом, каратель этот! И еще говорила Полина, чтобы и Людмилу тоже ты поберег, может, чем она и не удалась, мало ее Полина видела, а только в жизни своей лучше ее тебе не найти, потому как душой она чистая. Это и с первого взгляда всегда понимается. Сыновьям в деревню велела все описать, как получилось. Потосковала она, что не простится с ними. И у меня тут тоже камень на сердце. Не вызвал я сыновей сразу-то. Не верилось, ну, никак не верилось мне, что помрет Полина. А им добираться из своей дали сюда более двух недель надо. Так и похоронили без них. Вот. Последние слова ее были: „Даринька, вижу солнышко“ И засмеялась счастливо. Со смехом на губах и застыла. А никакого солнышка не было. Перед утром, по-тёмному еще, в палате больничной она умирала. Закрыл я Полине глаза. Пусть всегда ей видится солнышко.
Похоронили Полину с воинскими, почестями, приказал командир дивизии. Потому, все одно как в бою погибла она, от вражеской пули. Играл духовой оркестр, и перед знаменем полковым ее пронесли, над могилкой в воздух стреляли, и почетный караул потом прошел. Рекаловский над гробом прощальное слово сказал, не помню что, уши глухие были тогда у меня. Любили ведь люди Полину, вот как любили!
Почтили ее многие командиры наши, венки принесли. Она ведь тоже как о каждом заботилась! День за днем в работе всегда проходил, было, может, оно и незаметно, привычно. Что там столовка! Да ведь суть вся в ласке к людям, с какой она дело делала. И вышло — заметили, все заметили. Не по команде, по своей доброй воле пришли, и честь ей отдавали.
Особо скажу я тебе, Тимофей, насчет комиссара Васенина.
Из Владивостока приехал он, рядом со мной над могилой Полины стоял, руку мне пожимал с сочувствием. Это же, понимаешь, как горло мне защемило. Помнит походы, помнит бои и дружбу нашу, если по чинам, такую неравную, а по-человечески верную и простую. Узнал про горе мое и приехал. Не допытывался я, как он узнал: не до опросу тогда было. Может, из наших командиров кто ему телеграмму отбил. Видели ведь люди, как мы с ним обнимались, когда Васенин при самом командарме товарище Блюхере раз один сюда приезжал. Тоже люди от чистого сердца и от уважения сделали. Как это забыть? Хотя и не забыть мне самого главного. Нету Полины моей.
Торопился Алексей Платонович по обязанности, долго задерживаться не стал, с первым поездом обратно к себе вернулся. Но вспомнили мы и о тебе. Ты прости, что в угнетенности своей толком не мог я переспросить комиссара нашего, но сказал он как-то так в разговоре: „Вместе с Тимофеем мы еще долго послужим“. Это, должно, в том смысле, что известно ему — дело твое хорошо кончится.
Ну, а теперь о Рекаловском. Разное было у меня на сердце к нему в первые дни, как Полину привезли окровавленную.
Не договорись он с колхозом насчет меду, может, ничего бы с Полиной не произошло, свет светил бы ей и сейчас. Понимал я: случай. И все же томился недобрым чувством к нему. А Рекаловский вот как поступил: с полдороги вернулся и отпуском своим пренебрег. Из Москвы по делам стал звонить командиру дивизии, тот помянул в разговоре, какая беда у нас приключилась. И Рекаловский сказал: „Не могу ехать к морю, не будет мне там чистой радости, станет мысль точить — из-за меня, затеи моей Мешкова пострадала“. И вернулся. Такой человек.
И вот пишу я тебе, Тимофей, пишу обо всем, потому что надо мне поделиться, как, бывало, делился я с Полиной моей. Жить мне надо. Так Полина велела. Да и земля она для того, чтобы люди жили на ней, и в очередь по желанию своему, кому и когда помереть, не запишешься. А если жить надо, то и думать о жизни надо всегда.
Думаю я сейчас. Тишина в доме такая, что даже от лампы в темноту обернуться боюсь. И вижу я себя будто совсем со стороны, издалека. Сидит Мардарий Мешков за столом и мыслью своей ушел, ну, скажем, на пятьдесят лет вперед. А мысль у него: полный мир на земле. Все люди равные, нету ни бедных, ни богатых, ни капиталистов, ни пролетариев — один трудовой народ; и воевать народу этому не с кем и незачем — значит, не стало и солдатского племени; живется сытно, спокойно, потому что как же иначе, если все трудятся честно и между собой не воюют — разве земле всех не прокормить? Одним словом сказать, наступил коммунизм. И за эту вот жизнь, для всех сытую и спокойную, ходил Мешков в бой и походы военные, и голодал, и был стреляный, и на работе из себя жилы выматывал и не хотел пригреться на теплом месте, если знал, что ради общего дела надо ехать кому-то и в сырость, и в холод, и на лишения всякие, — ехал. Одним словом сказать, выполнял свои обязанности.
А потом гляжу я на него, на Мешкова, со стороны, издалека, вроде бы как раз из этих будущих пятидесяти лет. И думается мне: а. вдруг окажется, допустим — если глядеть с той вершинки, — обсчитался Мешков, в нетерпении своем неверно по срокам приблизил счастливую жизнь на земле. Нету полного мира еще, войны идут, а раз войны, стало быть, силой друг у друга отнимают земли отцов, рушат села и города; выходит, нету и равенства, люди многие опять и страдают и голодают, короче, не наступил коммунизм. А ведь что-то и сделано было до этого, потому что, если назад поглядеть, всегда оказывается что-то сделанным, и, значит, уже получше все же живется тем, будущим людям, чем, скажем, жилось Мешкову. И, послушай-ка, Тимофей, вдруг эти люди не поймут его, Мешкова? Зачем, скажут они, ему виделся коммунизм, и зачем он, не жалея себя, боролся за коммунизм, когда и так можно не худо прожить уже на половине дороги? И что, если тогда не найдется у них желания выполнять свои обязанности так, как выполнял, скажем, Мешков, то есть беззаветно биться за общее дело, не думая о себе? И не станут ли рассуждать будущие люди об этом самом Мешкове: какой, дескать, он был чудак, не понимал ничего по малой своей образованности, верил в наступление коммунизма на земле уже через короткие сколько-то лет, тогда, как времени на это надо побольше? И не то что совсем легко посмеются над ним, но все же и с полным уважением к нему не отнесутся, потому что за идею свою он где-то шел так. напролом, как эти будущие люди, по их соображению, сами бы не пошли.