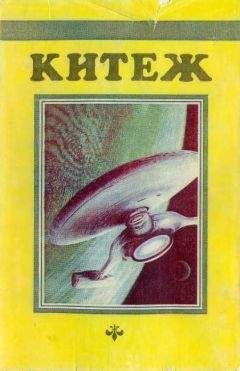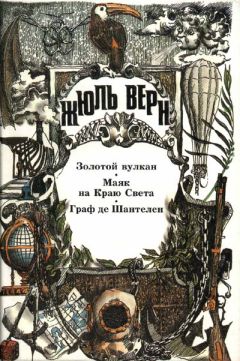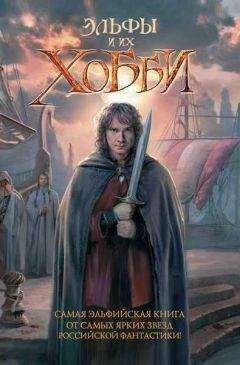Александр Черненко - Моряна
Вначале Дойкин обрадовался этому аресту: долги Георгию Кузьмичу в пять тысяч целковых рухнули. А потом — и радость не в радость. Говорят, все рыбные палатки в городе закрыты и опечатаны...
«И что делается! Не поймешь!.. — Алексей Фаддеич тяжко вздохнул. —А тут еще газеты трещат о каких-то колхозах. Эдакое непостижимое идет по всей стране... Не поймешь, никак не поймешь, что творится!»
Он нетерпеливо вынул руки из кармана, пошаркал ладонь о ладонь.
Мимо проходили ловцы, здоровались с Алексеем Фаддеичем; одних он замечал, других не слышал, все размышляя о событиях в городе и стране.
Думы тяжко навалились на него, и в конце концов, не в силах понять всю сложность и необычность случившегося, он запутался в них, как рыба в сетях.
Ясно сознавал он только одно: беда, большая беда обрушилась на рыбников!
Дойкин сумрачно посмотрел на лик угодника, нарисованный на трухлявой, рассохшейся доске, что висела под крышей-гробиком; потом перевел взгляд на проток, — по нему все чаще и чаще выбегали из Островка посудины на добычу рыбы.
Видел он — мало кто из ловцов поднимал руку, чтобы перекреститься и поклониться Николе-чудотворцу, который испокон века почитался как верный и надежный покровитель ловецкого племени. Может, только два-три ловца из десяти украдкой от других или по привычке взмахивали руками с небрежно сложенными пальцами, косясь на столб, у которого недвижно стоял Алексей Фаддеич.
— Выходит вера из людей, — жарко зашептал он. — Или люди выходят из веры — не поймешь, беса не поймешь!..
И глядя на то, как собираются ловцы в море, Дойкин с тоской подумал:
«А как раньше-то, в бывалое время выходили на лов! Как тогда открывали путину! Любо смотреть — с молебном, с попом, с хором!..»
От радостного волнения у Алексея Фаддеича захватило дух, и перед ним открылась знакомая, любимая картина.
...Берег кишмя-кишит народом, точно невиданный косяк выбросился на отмель.
Дьякон, воздев руку с орарем в небо, громогласно восклицает, хор во множество голосов неудержимо орет, а пышноволосый отец Сергий в раззолоченной ризе важно шагает по морским и речным посудинам, кропит их и сети святой водой.
А потом — жирные обеды на берегу, под натянутыми на шестах парусами, сотни ведер пива и водки, гармошки, песни, пляски.
Помнится, один раз даже отец Сергий, задрав полы рясы, плясал камаринского, — тот самый отец Сергий, что когда-то священствовал в новой церкви, которую выстроил батька Дойкина, Фаддей, на новом, обширном промысле и назвал ее в честь сына именем Алексея божьего человека.
Дойкин взглянул на икону под крышей-гробиком и громко, встревоженно задышал.
Это он, Алексей Фаддеич, и старый Краснощеков на свои собственные деньги соорудили здесь в двадцать четвертом году сие деревянное подобие часовенки. А потом объявили сбор денег на сооружение в Островке настоящей, каменной часовни, а возможно, и небольшой церквушки. Дойкин ассигновал сотню целковых. Хорошо сделал, что только ассигновал, а не дал: не развернулось это дело. Ловцы, да и то лишь крепкие, вроде Турки и Цыгана, дали кто по трешнице, кто по пятерке, и ещё некоторые старики да старухи внесли свою жертву натурой: одни рыбой, другие николаевскими золотыми... Перепало и от таких городских нэпманов, как братья Солдатовы, — они охотно откликнулись. Старый Краснощеков, не желая отставать от Дойкина, тоже ассигновал сотню. Как-никак, а в общем набралось четыреста целковых да полсотни золотыми... Дойкин предусмотрительно не взял этих денег на хранение, а поручил их Краснощекову — мало ли что могло случиться. Как посмотрело бы еще на эту затею начальство! Тогда у Дойкина не было таких зацепок, какие имеются теперь и в сельсовете и даже в районе!..
«Старый псюга! — с ненавистью подумал Алексей Фаддеич о Краснощекове. — Прикарманил часовенные денежки и молчит!..»
— Алексею Фаддеичу!
Дойкин вздрогнул.
Перед ним стояла, кланяясь в пояс и сложа руки на груди, Полька-богомолка; вся она была черная — и лицо, и платок, и ряска. Полька когда-то обитала в городском Девичьем монастыре.
Закатив глаза, она вдруг запричитала, беспрестанно теребя ряску на груди и чем-то позванивая:
— А я к тебе, кормилец ты наш, просить за рабов божьих — за Савелия и Анастасию. Знаю, не оставишь ты их в нужде...
Польку и Дойкина окружили ребятишки, рыбачки и кое-кто из ловцов. Продолжая громко причитать, богомолка просила за Савелия, что прошлой осенью работал у Дойкина:
— Помоги, помоги, кормилец ты наш. Деткам его помоги, да и самой Анастасии тоже... Пошли им мучицы, а Христос не оставит милосердия твоего.
— А что Савелий? — стараясь быть участливым, спросил Дойкин. — Нога у него как?
— Не сегодня-завтра Савелий из больницы выпишется и в Островок заявится, кормилец ты наш. А нога его, слава богу, на поправку пошла! — Полька-богомолка низко поклонилась. — Не оставь рабов божьих и деток их. Не оставь, Алексей Фаддеич!
— Пойди к Софке, пусть пошлет пуд ржаной и пуд пшенишной, — и перевел взгляд на Наталью Буркину.
Она стояла позади ребятишек.
«Ка-акой добрый! — с умилением подумала Наталья о Дойкине. — А Григорий все ругает его».
И снова тоска по сытой, прочной жизни охватила Наталью, как и недавно, когда она вела мужа с холмов.
— Не оставит тебя Христос, кормилец ты наш, Алексей Фаддеич!.. — Полька-богомолка крестилась, и, когда кланялась, у нее что-то грузное лязгало под ряской.
Закинув руки назад, Дойкин строго сказал ей:
— Ступай!
Она мигом, по-рыбьи вынырнула из толпы; ребятишки бросились за ней.
— Полька-голька, крестик на цепи! — громко кричали они, стараясь нагнать ее.
Отбиваясь от ребятишек, богомолка распахнула ряску и, обхватив обеими руками большой деревянный крест, что висел у нее на якорной цепке, замахала им:
— Свят, свят, свят!..
Ребятишки, смеясь, не отставали. Тогда Полька, бряцая цепкой, поспешно скинула несколько кругов ее со своей шеи и, грозясь крестом, пошла на ребят.
— Да воскреснет бог и расточатся врази его! — вдруг визгливо запела она.
Рыбачки зашикали на ребятишек, стали отгонять их от богомолки. А она, повернув назад и надсаживаясь в песнопении, зашагала к своей землянке, которую называла кельей; соорудил ее для Польки на краю Островка Алексей Фаддеич.
К Дойкину подошел его суетливый компаньон Мироныч; разговаривая с ловцами, он еще издали наблюдал за Алексеем Фаддеичем и Полькой-богомолкой.
Ловцы прозвали Мироныча Щукой — он постоянно находился в суете, спешке; тонкая и длинная фигура его, извиваясь, напоминала рыбу. У него, кажется, всегда был флюс, — опухшая щека неизменно перевязана черным платком.
— Все готово, в порядке все, — сказал он Дойкину. — В море хоть сейчас. И проглеи — вон как раздались!..
Мироныч широко обвел рукою проток.
Глянув в сторону моря, он заметил, как у дальних берегов затрепыхали метелки камыша.
Дохнула моряна, и с Каспия потянуло терпкой солоноватой влагой. Солнце лучисто заискрилось в разводьях между льдов, словно золотые рыбины пошли поверх воды.
— Вот, видишь, и моряна потянула, — заторопился Мироныч. — Перейдет в штормяк — и не даст выйти, а то лед тронется.
— Рано еще в море, — твердо сказал Дойкин. — Посудины порежем!
Мироныч неопределенно пожал плечами:
— Оно известно... Зима может еще и вернуться... Хотя и в море вроде пора...
— Обождем!
— Можно и обождать, — согласился Мироныч, понимая опасения и тревогу Дойкина.
— Успеем...
Посмотрев по сторонам — нет ли кого поблизости, — Мироныч недовольно сказал:
— А ты чего расщедрился — два пуда Савелию отвешиваешь.
— Забыл разве?.. За Савелием три сотни значится. Пусть поправляется на здоровье!
— Та-ак... — Мироныч помолчал и кивнул на проток: — А мы как с приемкой?
Замысловато лавируя между льдинами, по проглеям бежали бударки и куласы: одни с уловом на рыбоприемку Госрыбтреста, что недавно появилась под тем берегом, другие со свежими менами сетей скрывались в дальних туманах.
Дойкин едва слышно проронил:
— Пока погодим и с приемкой.
Внутри у него дрожала обида, большая и жгучая; стараясь овладеть собой, он говорил прерывисто, волнуясь:
— Сегодня в район махну. Разузнаю, что там и как. Иван Митрофаныч-то в курсе всего: он в ладу с районным начальством. И в городе на днях был. Прошлый раз я ведь так и не дождался его...
— Здрасте! — к рыбникам подошла шустрая Анна Жидкова. — А я к вам насчет того-сего — работы. На тоню стряпуху надо будет?
—Не надо! — отмахнулся Мироныч.
— А я тебя не спрашиваю! — оборвала Анна. — Я к Алексею Фаддеичу.
И она лихо повела подчерненной бровью.