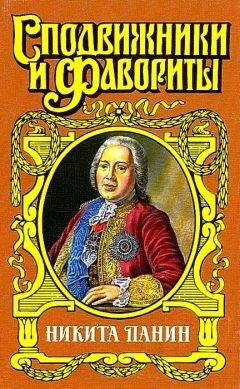Михаил Панин - Матюшенко обещал молчать
Зямка за углом мгновенно проглатывал «буханку» и тут же снова вырастал у прилавка.
— Гражданка продавщица...
Когда весь хлеб был продан, Манька предлагала торговать пирожками из песочка, но Зямка вдруг утрачивал к торговле всякий интерес.
— Ну давай, давай! — упрашивала Манька.
— Нет, Маня, поиграли — и хватит. Дела есть, — облизывая с губ сладкий сахарный песок, твердо говорил Зямка. — Ауфвидерзеен...
— Обдури-и-ил! Обманщик! — раздавался над утренними пустынными еще дворами крик прозревшей Маньки, и во избежание последствий Зямка, оглядываясь, трусил закоулками в развалины синагоги, где его уже поджидал второй член компании — Гришка Лозовой, по прозвищу Полицай.
Отец Гришкин был одним из тех, кто вместе с немцами с винтовкой в руках гнал в сорок втором году на расстрел Зямкиных отца с матерью и восьмилетней сестренкой. Он служил в полиции, но, по общему мнению местных жителей, полицаем был добрым. Он никого не «забирал» (а иногда, наоборот, предупреждал — придут...), не бил, не прижимал тех, у кого родные служили в Красной Армии, в расстрелах не участвовал (сам не стрелял). Когда евреев гнали по нашей улице на Борщовку, к оврагу, отец Гришкин даже разрешил передать Зямкиным родителям поесть. Узелок собрали соседи, и теперь женщины это часто вспоминали: «Передали им, а Петро Лозовой с винтовкой рядом шел, так отвернулся, вроде не видел ничего. А ведь за такие вещи ему могло попасть. Свои все ж таки, сколько лет вместе жили, и в праздники, и в горе... Думали, в Германию их гонят, им так сказали, вещи с собой несли, а потом, слышим, на Борщовке — та-та-та... Всех до одного поубивали, и детей...»
Петро Лозовой до войны работал киномехаником и был парень хоть куда — веселый, боевой, первый спортсмен, первый гармонист и певун и первый кавалер на нашей улице. Он и женился в тридцать седьмом году на самой красивой девушке в округе, про их любовь и сейчас, спустя десяток лет, частенько вспоминали соседи — красиво ухаживал Петро за Галей, цветы носил — все палисадники пообрывает, по улице идут, бывало, так как картинка...
С начала войны он, как и все его сверстники, ушел на фронт, два месяца воевал, потом попал в окружение, переоделся в гражданскую одежду и добрался до своего города, уже занятого немцами. Долго отсиживался в погребе. Но в городке начался страшный голод и надо было кормить семью: жену и двоих малолетних сыновей — Гришку и Вовку. И он стал выходить по ночам на промысел. Ловкий и смелый, знавший в родном городе каждую щель и закоулок, он забирался в немецкие склады, воровал продукты, обмундирование, что попадется под руку, пока его однажды не поймали на месте преступления в крытом брезентом немецком грузовике с мешком колбасы и хлеба. Ему предложили выбирать: или расстрел, немедленно, или служить в полиции. Привели и Галю с детьми... Он выбрал полицию. Гришка с Вовкой и их красивая мать Галина стали сытно есть, но однажды ночью им бросили в окно гранату. Убило Гришкиного брата, трехлетнего Вовку. Все думали, что теперь Лозовой станет мстить землякам за сына, но ошиблись. Петро не обозлился, никого не тронул, ни на кого не донес из соседей. Угрюмый и поседевший в свои двадцать восемь лет, он молча нес бремя и позор своего, предательства, охранял те же немецкие склады, в которых раньше воровал, железную дорогу и, когда угоняли в Германию молодежь, сопровождал на станцию понурые колонны. Он отступил вместе с немцами и с тех пор исчез. Галина Лозовая, Гришкина мать, работала приемщицей на овощной базе, а после работы до позднего вечера копалась в огороде, полола, прорывала, Гришка ей помогал. Там же, в огороде у них, среди высоких подсолнухов и кукурузы, была маленькая, всегда чисто прибранная и усаженная цветами могилка без креста. В ней был похоронен Гришкин брат...
Когда я однажды спросил у Толика Богуна, как совместить с Гришкиным происхождением то требование нашего устава — бить, где только встретишь, детей полицаев (Гришка стоял тут же, понурив голову), Толик сурово объяснил мне:
— Гришка отказался от отца.
Гришка утвердительно кивнул.
— Он никого не убивал из наших, — глянув на меня исподлобья, сказал он. — Спроси кого хочешь!
— Ага, такой до-обрый был полицай! — недобро усмехнулся Толик.
Гришка замолчал.
У самого Толика отец был похоронен в центре города в братской могиле. Он был партизан. Их было пятнадцать человек, коммунистов и комсомольцев, оставленных партизанить в нашей безлесой, ровной, как стол, степи. Они устроили свою базу в балке, в пяти километрах от города, дня три сидели тихо, а потом сделали вылазку. Немцы их окружили в балке и забросали гранатами. Кто уцелел, в том числе и отец Толика, попали в гестапо. До войны отец Толика работал конюхом в райисполкоме, и, когда его привели на допрос, начальник полиции Зинченко, пришедший в город вместе с немцами, спросил у него:
— За что же ты воюешь, конюх? Отец, твой был конюхом у моего отца, и ты так конюхом и остался. За что ты отдаешь жизнь свою, ты подумал?
И отец Толика, потомственный конюх Микола Богун, отвечал полицаю:
— А что тут думать? Я погибаю за батькивщину, за землю отцов. Самое святое дело...
Потом Зинченко собственноручно расстрелял его. В сорок третьем году, когда вернулись наши, предателя нашли и повесили на базарной площади, перед старинной церковью. Толик с матерью ходил на него смотреть и бил его труп палкой.
Мать у Толика работала уборщицей в школе. Летом она, как и все женщины, не покладая рук возилась в огороде, выливала сотни ведер воды на капусту, на помидоры, дрожала над каждым куском хлеба. И, таким образом, не считая еще двух-трех пацанов, у которых дома тоже не густо было, самым благополучным в компании был я. У меня работала в больнице мать, был жив отец, он получал хорошую зарплату, и я пил каждый вечер проклятое молоко. Этой роскоши мне бы никогда не простили мои товарищи, но мой отец был военный, майор, он носил ордена, и за это мне сходило с рук мое «барство», которого сам я невыносимо стеснялся.
Я почти всегда последним прибегал к развалинам синагоги, — в воскресенье мать и отец оставались дома и было сущим наказанием каждый раз чистить зубы, мыть шею, ждать, когда приготовят завтрак, есть кашу, пить чай, да еще с бутербродом... Когда я в свое оправдание перечислял все это моим приятелям, они переглядывались и молчали. Потом кто-нибудь презрительно сплевывал и говорил: «Ну и брешешь ты, Жилкоп! Чай, бутерброд...» Все начинали смеяться, и в конце концов я получил еще одну кличку — Бутерброд. Я протестовал — слово было немецким, звучало ничуть не лучше Гришкиного «полицая», и сколько шишек и синяков я получил, отстаивая свою ребячью честь! Меня все же наказывали за опоздание: пока обсуждались всякие важные дела, меня ставили «на шухер», чтобы кричать «атас», если поблизости появится кто-нибудь чужой. Если же кругом было спокойно, я последним спускался в подвал, где размещалась святая святых нашей компании — штаб, и маскировал вход — дыру среди кучи мусора — куском ржавого листового железа.
3
Мир детства и мир взрослых — как две суверенные страны, они населены родственными племенами, меж ними ведется взаимовыгодный обмен, но полное понимание невозможно: слишком разнятся законы и языки... Больше всего в нашем городе мне нравились развалины. Это были чудесные развалины! Большей частью почему-то уцелели стены высоких каменных домов. Внутри коробок была пустота, горы битого кирпича под ногами, стекло, сухие нечистоты. Но кое-где сохранились лестничные марши, болтались оборванные перила, из стен торчал искореженный ржавый металл перекрытий. И при известной сноровке можно было забраться на самый верх дома, там гнездились коршуны, пройтись на головокружительной высоте по стенке, осторожно опуститься на корточки и, запустив руку в глубокую нишу, выбрать из гнезда теплые насиженные яйца. Разъяренная коршуниха носилась над головой, потом взмывала ввысь и с криком кидалась на грабителя, норовя долбануть железным клювом в самое темя, — тщетно. Пропаганду милосердия к зверям и птицам еще стеснялись к тому времени возобновить, и мы, темные, делали из птичьих яиц, прокалывая их иголкой и выдувая, роскошные ожерелья. Внизу лежал город, коричневый, сожженный, белые мазанки по окраинам, сады, землянки. За городом желтела до самого горизонта пустая степь. Где-то там, за дрожащим маревом, были села — еще одна непонятная страна детства. Оттуда приезжал на бричках, запряженных ленивыми толстыми волами, загадочный прижимистый народ — селяне. На базаре сельских неизменно ругали за жадность — семь шкур дерут. На что мешковатые, плотные дядьки в глубоких картузах кричали с возов: «Вам гро́ши платят! Гро́ши! И по карточкам все дают! А нам ни грошей, ни карточек. А налог, налог!» Их звали жлобами, а сельских мальчишек, приезжавших с отцами на базар, полагалось ловить на улицах и пускать им «красные сопли».