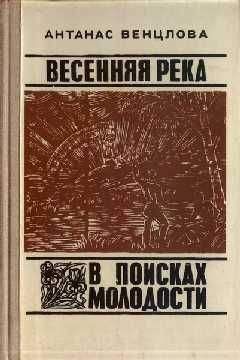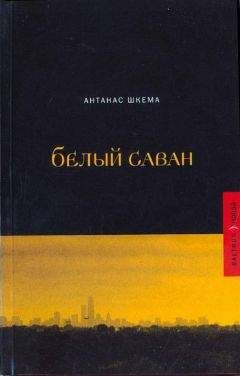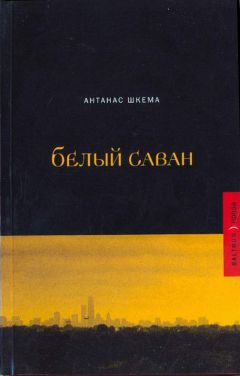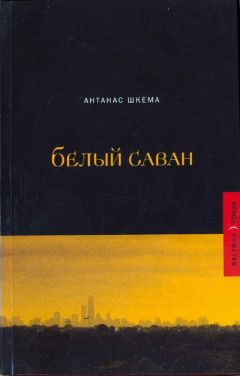Антанас Венцлова - Весенняя река
Через открытую дверь я шагнул прямо в избу, где ярко светила карбидная лампа (новшество военного времени), а за стоящими углом столами, уставленными всякой едой, сидело великое множество людей. В красном углу я увидел заплаканную Кастанцию в белой муслиновой фате и зеленом рутовом веночке. Рядом с ней сидел незнакомый человек в нарядной домотканой паре с рутой в лацкане, без галстука, зато с блестящей пуговкой на шее. Лицо у него молодое и довольно пригожее. Среди соседей я разглядел и гостей, прибывших издалека. Молодой Жукайтис из Граяускай, уже навеселе (на столе торчали бутылки с самогоном), заметив меня, привстал за столом и сиплым голосом прокричал:
— Не видите, что наш худент приехал! Да здравствуют ученые Литвы!
Все удивились, словно я явился из владений Деда Мороза.
Поздоровался я со своими, отогрелся у печи, и меня посадили за стол. Молодой Жукайтис снова встал, поднял полную рюмку и начал:
— Дорогие родственники и, значится, гости! Мы, значится, собрались тут отпраздновать важное, приметное событие — выдачу замуж в деревню Рекетия нашей дорогой Кастанции, по мужу, значится, Гузявичене… Вот, значится, нам всем очень приятно, что собралось столько дорогих соседей и даже наш дорогой худент приехал из дальнего своего училища, из самого града Мариямполе… Значится, вот я и поднимаю это самое, чарочку, за счастье молодых, чтоб всяких напастей, значится, горестей или прочих бед, ну, там, со скотиной или с малыми дитями или еще чего…
Рябое лицо Жукайтиса раскраснелось, и я видел, что по щекам у него катятся слезы. Юозас Бабяцкас крикнул:
— Хорошая речь, чтоб его собаки… Будто калварийский настоятель в престольный праздник девы Марии…
Я сидел среди женщин и пил горячий чай. В это время в дверях появился Сергеюс Стасюкявичюс. Он был бледен, его губы дрожали (в ярком свете карбидной лампы это было отчетливо видно). Увидев его, все гости разом, словно в ожидании чего-то, замолчали. Отец встал за столом и сказал громким, высоким голосом:
— Тут есть гости прошеные и непрошеные… Я…
— Я-то непрошен, — ответил Сергеюс, — но пускай, пускай… Мне казалось, Сергеюс сейчас вытащит из кармана револьвер (про такие дела в последние годы слыхивали даже в наших краях) и уложит на месте Кастанцию и сидящего рядом с ней Гузявичюса. Но он опустил руки, подошел поближе к столу и, уставившись мутным взглядом на Кастанцию и ее мужа, сказал:
— Дайте мне чарочку, я с молодыми выпить хочу!..
Кто-то взял со стола и подал Сергеюсу рюмку. Над головами других гостей он чокнулся с Кастанцией, потом с Гузявичюсом и, опрокинув рюмку, выпил до дна. За столом все молчали в ожидании дальнейших событий.
— Музыкант, валяй! — крикнул он, увидев хромоножку, двоюродного брата отца, который, отложив скрипку, закусывал в конце стола. — Валяй, заплачу! — повторил он.
Музыкант отошел к окну и ударил смычком по струнам, а Сергеюс поклонился Кастанции и сказал тихо:
— Приглашаю на вальс…
Кастанция колебалась, но женщины зашептали: «Иди, иди, коли человек просит». Тогда она встала и вышла из-за стола. Сергеюс обнял Кастанцию за талию и закружился сначала медленно, а потом все быстрей и быстрей. Так они танцевали долго, пока Кастанция не устала. Сергеюс ей все время что-то говорил, но не слышно было что. Музыкант опустил смычок, и Сергеюс, стоя посередине избы, сказал:
— Вот говорил же я, что приду на твою свадьбу выпить за твое здоровье и счастье и станцевать с тобой последний танец. Вот и выпил, и потанцевал…
Кастанция заплакала и прижалась к тете Анастазии. Сергеюсу никто не посмел слова сказать. Соседки, сидевшие за столом, стали вытирать влажные щеки. Сергеюс еще раз поклонился Кастанции, потом всем, сидевшим за столами, и, шатаясь, как пьяный, вышел из избы. Женщины, словно желая загладить случившееся, затянули песню:
Ох, матушка, горе тебе, тебе,
Растила дочурку, да не себе:
Отдала дочурку во сношеньки,
Вложила ей руту во рученьки…
Ох, плачет дочурка во сношеньках,
Ох, сохнет там рута во рученьках…
Не плачь-ка, дочурка, проведаю,
Не сохни-ка, рута, водой полью…
Я видел через стол, как Кастанция, вернувшись на свое место, вытирает слезы. Муж что-то тихо шептал ей на ухо. Он был куда красивее и крепче с виду, чем Сергеюс. Я глядел на сестру и едва сдерживал слезы — до того было ее жалко.
Ко мне подсел молодой Жукайтис и, дыхнув винным перегаром, обнял меня за плечи:
— Вот, значится, мужа Кастанция получила… И хозяйство, сказывают, во какое, и земля добрая, да и поклоны бить, значится, некому… И отца и мать уже похоронил, ну еще брат остался… Подкинет ему малость, и тот, значится, в Америку укатит. А этот (он имел в виду Сергеюса) — просто побирушка. Молодо-зелено, а вышла бы за него замуж, и его сестра живьем бы ее съела, долю выколачивая…
— Дядя, но ведь они любили друг друга! — воскликнул я.
Жукайтис рассмеялся.
— Знаем мы эту любовь, значится, — сказал он. — Любовь что картошка… То есть, а то уж и след простыл…
«Нет, их не изменишь, — думал я. — Такими они родились, такими умрут… Им только дом, имущество подавай…»
— А ты, худент, вот из классов вернулся, ученый теперь, значится. Скажи-ка нам, как теперь будет. Говорят, литовское войско набирают… Не станет ли хуже с этим войском?
Услышав его слова, подскочил наш Пиюс:
— А чем хуже, дядя? Литву создадим — независимую, без угнетателей, демократическую, понятно?
— Кто там ее, значится, знает… — сомневался Жукайтис. — Ведь и царя и кайзера видали — всяк норовит свое взять. Всяк только и глядит, чтоб у бедняка последний кусок…
— Больше так не будет, — утверждал Пиюс. — Люди сами власть поставят, какую захотят. Германец уйдет, сами станем управляться.
— Германец уйдет, значится, — не унимался Жукайтис, — а другой дьявол придет. — Потом он обратился ко мне: — А что за коммунисты такие, не слыхивали там, в классах?
— Слышал, дядя, но точно сказать не могу, — ответил я. — Говорят, тоже против бар, против богатеев…
— А как они насчет ксендзов? — снова спрашивает у меня Жукайтис. — Говорят, здорово ксендзов не любят.
— Этого я не могу сказать, — откровенно признался я. — Говорят-то всякое, но где тут правда, дядя, не знаю…
— Вот то-то и оно, что, значится, никто не знает, как что лучше сделать. Вот и мы не поймем, в какую сторону податься бедному человеку… Вот в чем вся загвоздка…
Музыкант заиграл на своей скрипке польку, и по избе понеслись пары. Я танцевать не умел и опасался, как бы какая-нибудь деревенская танцорка не пригласила меня. А Жукайтис все говорил да говорил… Я снова взглянул на Кастанцию. Она сидела рядом с мужем, и лицо у нее было красивое и нестерпимо печальное.
ИНЕЙ И СОЛНЦЕ
Еще только брезжил рассвет, но надо было вставать. А вставать ужасно не хотелось! Чердак остыл с вечера, и теперь в нем было холодно, как в овине. Свернувшись от холода в комочек, я лежал в железной кровати под жалким лоскутным одеялом, что сшила мама. Приближался неумолимый час, когда, хочешь не хочешь, придется высунуть из-под одеяла босые ноги, встать на холодный пол и, трясясь всем телом, торопливо натягивать носки, штаны, башмаки, умываться и причесываться.
— Вот черт, сегодня опять пар из носу идет! — нежился в постели Васаускас, а мой богобоязненный сосед Антанас Янушявичюс, уже одетый, умытый, молился, опустившись на колени у своей кровати.
На моей половине чердака сладко спал первоклассник Каросас. Я взглянул на его маленькое личико, и мне стало жалко его будить, но, вспомнив его вчерашнюю просьбу, подошел, приложил губы к его уху и закрякал:
— Крр…
Каросас перевернулся на другой бок и открыл глаза.
Как тяжело здесь умываться зимой! В сенцах на железных ножках стоял таз, а рядом — ведро с водой. К утру вода чаще всего замерзала, и, чтобы умыться, приходилось выкидывать лед. Этим утром вода вроде бы не замерзла, а может, лед уже выплеснул Янушявичюс, который умывался раньше всех…
Выпив черного кофе с хлебом, намазанным искусственным медом (такой чуть сладкий немецкий мед продавали тогда в лавках), мы отправились в гимназию.
Туман и облака, спозаранку обволакивавшие дома и небо, теперь рассеялись. На улице не было холодно, а может, так казалось, потому что мы выпили горячего кофе. За городским садом пылало яркое алое солнце, а весь сад стоял в инее, сверкая, словно белое чудо. Ни одна веточка не колыхалась, словно деревья боялись шелохнуться, чтобы с них не посыпались белые-пребелые Украшения, висевшие хрупкими, нежными, тончайшими кружевами и мерцавшие, будто кораллы. Я глядел на одетые инеем деревья, на тропинки, уходившие вдаль, которым, казалось, нет конца. Так бы и ходил тут целый день, глядел на стволы и ветви деревьев, такие белые, такие сверкающие, радовался бы и надеялся на что-то — надежда моя была смутной, но солнечной и белой, как этот сад…