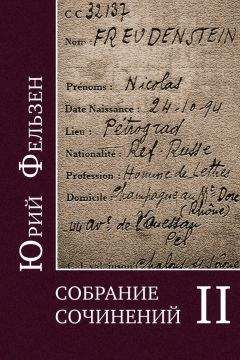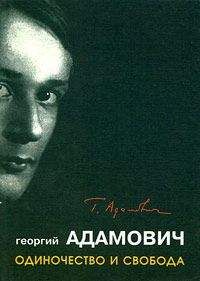Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том I
В сущности, я мог бы объясниться и раньше, но по опыту (еще до-Лелиному) без колебаний знал, что ничего не выйдет, что Леля далека от меня и как-то хрустально-непроницаема, и я упорно – будто бы от стойкости и силы – молчал. Сегодня происходило неуловимое Лелино приближение, не сказавшееся ни в одном слове, ни в одной улыбке, пока вечером – у себя в комнате, – как всегда, умело со мной обращаясь и, как всегда, понятливая и ясная, она первая не начала разговора.
– Нам пора с вами побеседовать, не правда ли? Теперь уже время наступило.
– Нам, Леля, давно пора.
– Вы мною недовольны – скажите честно и не стесняясь.
– Без обид – ну хорошо. Я нахожу, что вы со мной и жадная и скупая (это было заранее приготовлено) – жадная, что хотите меня сохранить, а скупая, что своего не отдаете.
– Верно и очень точно. Но жадная – это все-таки для вас выигрышно.
Леля, при всей уверенности со мной, говорила с трудом, принужденно, и отыскивала мелочи, ее оправдывающие, или доказывающие нашу неразрывность, или же для меня лестные.
– Я знала, как вам было трудно, и не умела, просто стыдилась это сказать.
– Очень жалко – мне бы вы помогли.
– В следующий раз – нет, простите, милый, за шутку.
– Как легко и приятно, когда вы не хмурая и со мною шутите (это вырвалось у меня – без сомнения, преждевременно и по-невыгодному). Но сколько раз я думал, что не дождусь ваших дружеских шуток и что вот-вот всё брошу.
– И не думайте о таких глупостях. Вы мне нужны и отлично это знаете.
– Леля, если я вам нужен и вы хотите сохранить какое-то для нас будущее, надо очень многое предусмотреть. Я ведь ничего еще не понимаю, вы должны отчитаться передо мной. Простите, я должен знать, что у вас такое было.
– Ставьте вопросы.
– Вы с Бобкой близки?
Леля мгновенно посерела, даже глаза ее, обычно синие и смелые, как-то задрожали и сделались тусклыми – она их медленно полузакрыла, опустив голову, точно не в силах выговорить решающее стыдное слово. Мне стало невыразимо жутко, и вдруг представилось всё различие недавних наших положений, я сразу же перенесся назад, к неопределенности и некоторой надежде, когда мучился и горевал – оказывается, недостаточно, – и я похолодел от того, страшного и наглядного, что было, от того, как бы мне следовало мучиться и горевать: при Бобке я часто воображал, с легкомысленным, неоправданно-сладким упоением, как Лелю поймаю и уличу, ее позор и свой мстительный издевающийся уход – сейчас не было желания расставаться, навсегда враждебно разойтись, но всё озлобленное, униженное, подавленное, что накопилось за многие месяцы (перед Лелиным отъездом и в ее отсутствии) и в последние дикие недели, – все это вырвалось и меня охватило, вытеснив готовность благодарно и легко примириться, и я решил в свой черед Лелю помучить, заставить хотя бы частично искупить непростительную ее вину:
– Когда же? Где? Я совсем запутался – ведь дома вы постоянно были со мной.
– Не спрашивайте, пожалуйста, вы видите – мне тяжело.
– Все-таки, просто по дружбе – прежде вы прощали мое неуместное любопытство.
– Вам хочется знать – у Вильчевских.
Я с очевидностью вспомнил маленькую приемную и кушетку, на которой целовал Зинку, на которой еще вчера Леля могла целовать Бобку, и невольно подумал о странном скачке судьбы. Леля сидела напротив меня, беспомощная, но упрямая, стараясь не поддаваться моему озлоблению и не сбиться с первоначального тона доброжелательной взаимной искренности. Она обратилась ко мне с такой предельной убедительностью, точно хотела внушить свою новую, окончательную, чистоту:
– Если бы вы знали, как мне самой непереносимо что-то – вы понимаете, что, – от чего я бы рада избавиться. Ведь это причина каждой, ну, каждой моей неудачи. Из-за этого от меня ушел Сергей и тогда, в Москве, и теперь… Он мне всё объяснил, свой страх, свое незнание меня и уверенность в плохом конце. Из-за этого я сошлась с мужем, и вот сейчас Бобка. Вы умный – объясните, как измениться, я, правда, хочу быть другой.
Лелина искренность до меня не дошла: я был занят каким-то выяснением, какой-то следовательской работой, еще не доведенной до конца:
– А с Бобкой у вас только это – ничего возвышенного и милого?
Леля недолго помолчала и как-то неожиданно выпрямилась:
– Нет, я хотела бы любви. Для вас он ничтожество – вы правы, я сама знаю ему цену. Но неужели вас не трогает, когда недобрый человек вдруг проявляет доброту. Вот меня трогало, что именно Бобка, пустой и ничтожный, возвышается, делается стоющим. Вам не так, как ему, нужна любовь, вы и без того стоющий и добрый.
Я подумал – наконец схвачена Лелина «идея» любви, и Леля не отказалась от «идеи» и, значит, еще любит.
– Но вы Бобку не разлюбили (Леля снова, как бы подтверждая и стыдясь, низко наклонила голову). Что же мне делать? Как вернуться к вам? Помните, вы говорили, что больше всего боитесь неустойчивости. Вас научил бояться неустойчивости Сергей своим внезапным уходом, а меня научили вы. Подумайте, разве я могу теперь быть с вами спокоен.
– Да, печально. Я решила быть совершенно искренней, и вот как получилось плохо. Женщины должны лгать.
– Леля, вы правы, что искренни. Всякая ложь узнается, и тогда еще хуже. Но нельзя в один час уничтожить впечатления целого месяца (неожиданно выступила моя «идея» неотомщенности). Ведь целый месяц вы словно нарочно меня отталкивали. Вы ходили, как слепая, и не замечали даже разницы в благородстве, причем разница была не в том, что мы разные люди, а в том, что по-разному друг к другу относились. Вы не видели тысячи мелочей (я их записывал дома, в отдельной тетради, под заглавием «Параллели» и по многу раз перечитывал, наслаждаясь возможностью сравнивать и жестоко Лелю обвинять). Хотите пример: если вы делали наблюдение, находили сходство, и я с вами не соглашался, то с неловкостью, как будто я не понял и как будто вы даже и правы, а вы в этих случаях старались меня оборвать – «откуда», «бросьте», «ерунда» – и уничтожающе пожимали плечами. Жаль, что нельзя изобразить победного вашего вида, если я чего-нибудь не знал – если же бывало наоборот, и я случайно заговаривал о чем-нибудь, вам неизвестном, вы с Бобкой смеялись: «Он хочет показать ученость». И сколько, сколько еще другого.
Мне стало легче от этих, долго копившихся, наконец высказанных обвинений, но Леля, кажется, начала возмущаться и попыталась себя защитить и поднять:
– Уверяю вас, я всё видела, но никак не находила, чем помочь. Представьте себе, ваш друг обеднел или стареет – разве можно его утешать. По-моему, даже и с посторонними не следует его жалеть, чтобы он не прочел в их глазах ужасных слов «сочувствую», «утешаю». Не лучше ли, не деликатнее ли просто не говорить и этим показать: «Да, вам плохо, но я знаю, вы сильны и справитесь сами».
– Силен я только теперь – без Бобки.
Это нечаянно у меня вырвалось – как перед тем радость, что Леля шутит и со мною мила – и было опять и преждевременно и невыгодно: вся дальнейшая моя независимость сразу объяснялась – притом в самом дурном для меня свете. Я решил напомнить и о выигрышном для себя, о некоторой своей стойкости при Бобке:
– Вы каждую минуту подтверждаете то, что я и так видел и помню – что вас всё трогало, кроме моего. Мне сейчас неловко себя хвалить, но разве я не вел себя временами хорошо – лучше, чем вы и Бобка.
– Я была раздражена против вас, и даже случаи вашей выдержки мне казались геройски-пресными, простите, милый друг, именно пресными.
– Но ведь от вас зависело как-то настроиться самой и по своему поведению изменить и направить мое, сделать его сколько-нибудь достойным. Вы не подумали, что от такого глупого времени многое остается навсегда.
– Я пришла, чтобы честно с вами помириться, а вы меня пугаете и отталкиваете. Я не испугаюсь – понимайте, как хотите. Вы без конца спрашиваете, что было тогда-то, почему я себя так-то вела. Я отвечаю – против своей воли. Вам недостаточно, вы заставляете меня сказать то, что отлично вам самому известно. Да, я ненавидела вас. Есть такая болезнь – раздражение, доходящее до ненависти – против тех, кто смеет нас любить, от кого нельзя избавиться – если только мы сами не любим.
У меня появилась мысль: вот несвоевременное объяснение грубой моей жестокости с Зинкой после всей найденной, внезапно меня озарившей, обязательной доброты к людям. Леля, прервав эту мысль, продолжала неумолимо обвинять, возмущенная моими нападками и своими, вероятно, давно накопленными и невысказанными упреками:
– Вы мне говорили – взгляните на себя. Но если бы и вы могли себя видеть – какой бывали иногда неприятный. Вы каждую минуту следили за мной, я постоянно ощущала ваш колючий сыщнический взгляд – особенно за танцами или если я лежала на кровати, а Бобка сидел рядом. Вы точно хотели, чтобы при вас что-то случилось, и были ужасно бесстыдным. Бобка много раз меня спрашивал, по какому праву вы так смотрите и почему я это допускаю. Не забудьте, вы портили редкое у меня и все-таки хорошее время.