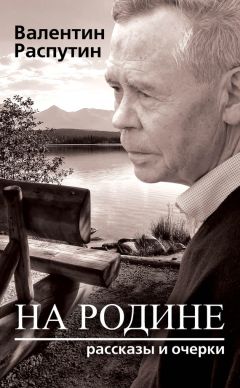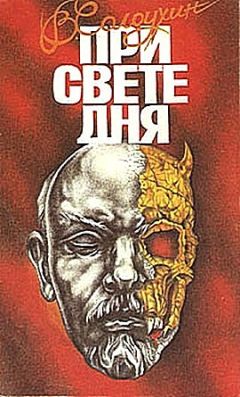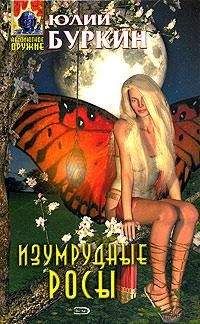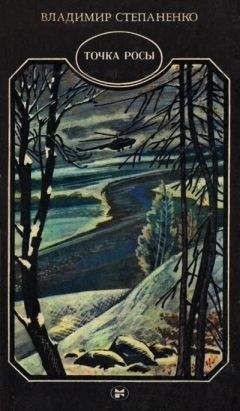Владимир Солоухин - Капля росы
– Хочу с вами посоветоваться, – сказал однажды Сергей Иванович, – надо бы устроить посреди села гигантские шаги, но вот где взять столб?
Не зная, что такое гигантские шаги и зачем они понадобились посреди села, мы, однако, обрадовались возможности помочь председателю и заявили, что если нужно, то завтра столб будет на месте.
В лесу свалили мы (как бы случайно оказался с нами кузнец Никита Васильевич) нужной величины сосну, обрубили у нее сучья, обделали все лучшим образом, ибо и Черновы были вовлечены в работу, и постепенно, занося то один конец, то другой, с шумом, с гамом перетащили кое-как столб из леса в село.
Когда была вырыта яма и столб с вертушкой наверху установлен прямо и прочно, а к крючкам вертушки прицеплены толстые новые канаты, наступил праздник. Никто не знал сначала, как нужно кататься на этих гигантских шагах, и длинноногому председателю самому пришлось демонстрировать столь невиданный ни в кои веки в селе Олепине способ развлечения. Но очень скоро мы не только научились кататься, но и приспособились «подносить» друг друга длинными кольями кверху так, что Сергею Ивановичу пришлось умерить наш пыл из боязни, как бы шаги не превратились в орудие убийства.
Возле гигантских шагов вскоре появилась площадка с городками, а потом в сельсовете нашелся волейбольный мяч, и нам, незаметно для нас самих, стало совсем некогда ни палить из самоделок, ни лазить по колокольне.
На другой год Сергей Иванович обещался привезти малокалиберную винтовку и всех нас научить стрелять. Но на другой год я уехал в город, и олепинское детство для меня навсегда кончилось.
Последняя встреча с Валькой Грубовым у меня была такая. В техникуме, где я учился, вахтер передал мне записку: «Володя, мы с Васей Кузовым в школе № 5. Надо бы попрощаться».
Школа номер пять была поблизости от техникума, и я немедленно помчался туда. Во дворе школы, в коридорах, в классах – всюду на своих чемоданах и мешках, и на земле, и на полу, и на партах, и на подоконниках сидели новобранцы. Был сентябрь – третий месяц войны.
Ребята увидели меня первыми, поскольку я шел в рост меж сидящих, и окликнули. Невеселая это была встреча. Совсем недавно мы играли в красный десант и думали, что история обошла нас, все совершив и позвав ко всему готовому. Семнадцатилетние мальчишки, дружки мои, которых Фомичев так и не успел научить стрелять, уходили фактически прямо на фронт. Я был всего лишь годом моложе их, но то, что они, остриженные под нулевку, с вещмешками сидели в здании школы и ждали отправки из города, а я еще оставался, сделало их гораздо старше меня. На чемодане разложили они олепинскую домашнюю снедь: вареное мясо, яйца, лепешки, лук. Мы поели. Валька, зная, наверное, как живут студенты, отрезал кусок вареной свинины и дал мне с собой, сказав:
– Мы едем на казенный харч, там голодом не заморят.
Они, Валька с Васей Кузовым, так и служили и воевали вместе. На глазах у Васи и погиб Валька Грубов.
– Под Воронежем, – рассказывал Вася, – как прижал нас немец, мы отбиваться. Валька за бугром из миномета палил. Вдруг меня зовут. Гляжу, лицо у него все разворочено, а сам он лежит и глядит на меня. Он ведь глупо погиб: одна мина из миномета не вылетела, а он другую в ствол опустил. В горячке боя все бывает. Сам знаешь, что после этого могло произойти. Отшибло ему напрочь нижнюю челюсть. Он глядит на меня жалостливо, глазами на флягу показывает – пить просит, а сам не знает, что пить-то ему уж нечем… Ну, потом унесли его…
Бошка перед уходом в армию выправился в кряжистого, крепкого паренька, с удивительными темно-синими глазами, каких я не встречал потом не только у мужчин, но и у женщин. Ему тоже было семнадцать лет, когда уходил в солдаты. Матери он писал: «Все идем и идем, а погода очень сырая. Портянки сушу у себя на груди под рубахой».
Про письмо мне рассказала его мать – тетя Нюша, которую сильнее всего поразила именно эта бытовая деталь: сушение портянок под рубахой, и она часто говорила об этом вслух, всплескивая руками и плача: «Застудит грудь-то, хоть бы он выжимал их сначала…»
Кажется, не было похоронной, вот почему тетя Нюша долго после войны ждала своего младшего сына. Ей все снилось, как он возвращается в село. «Все будто ноги на крыльце вытирает. Долго вытирает, а я кричу, чего вытирать, заходи уж так. Я один раз веником его огрела за то, что грязь на ногах принес, вот, значит, он ноги-то все и вытирает».
Странно, но мне раз шесть с разными подробностями снилось, как Борис Грубов возвращается в Олепино. Я рассказал об этом тете Нюше. Она обрадовалась совпадению так, как будто уж пришло от сына письмо или другая какая весточка. Но это было в первые два года. Вот и еще двенадцать лет прошло, и ни мне, ни самой тете Нюше больше не верится в чудесное возвращение Бошки.
Старший из трех братьев, Николай, остался жив. Он женился и живет на стороне. Алексей Павлович и тетя Нюша уехали из Олепина, продав иструхлявевший домишко свой на дрова за две с половиной тысячи.
Я думал, что на месте дома останется зиять неприятная пустота. Но Николай Жильцов, женившись и отделившись от отца, построил на этом месте новую избу.
* * *…Двухэтажный пятистенный дом с каменным низом. Одну половину его занимала большая семья Ворониных. Илья Григорьевич, теперь слепой старик, недавно уехал во Владимир к дочери; тетя Прасковья померла; другие дочери Ильи Григорьевича, как-то: Вера, Липа и Анна, а также сын Владимир – все живут по разным городам, теперь уж своими семьями. Дольше всех жила в отчем доме младшая дочь Ильи Григорьевича Нина с мужем Виктором Михайловичем Некрасовым, через руки которого, добрые учительские руки, прошли поколения олепинских жителей и жителей из окрестных деревень. Недавно Нина и Виктор Михайлович уехали во Владимир. К ним-то и переехал жить слепой Илья Григорьевич.
Сейчас всю половину Ворониных – и верх и низ – купил новый наш председатель колхоза Александр Михайлович Глебов. Тут я должен сказать несколько слов о нашем колхозе вообще.
Он образовался в 1930 году, и, так как мне было тогда шесть лет, я, конечно, не могу помнить в подробностях, как именно он образовывался, кто из мужиков голосовал за колхоз первый, а кто упирался и упрямился долее других.
Помню, что, впервые услышав слово «колхоз», я обратился за разъяснениями к матери и очень отчетливо до сих пор помню, что она мне ответила. Возможно, она нарочно упрощала дело, чтобы мне было понятнее, но, скорее всего, именно таким было понятие о колхозе и у нее самой, а может быть, и у других крестьян села.
– Колхоз – это вот что, – объяснила мать. – Соберемся все дружно, всем селом, и выкопаем картошку сначала у Ефимовых, потом все дружно перейдем и выкопаем картошку у Пеньковых, потом все придут и дружно выкопают картошку у нас. И так по всему селу. Это ничего, – продолжала мать уже в некоторой задумчивости и, значит, более для себя, чем для меня, – это ничего, так жить будет можно, плохого тут нету.
На первом же собрании село разделилось на два лагеря. Тринадцать домов записалось в колхоз, остальные раздумывали и колебались. Тогда-то и ходил по домам Володя Постнов и пел, переиначивая слова:
Владеть землей имеем право,
А единоличники никогда…
В селе постоянно жили уполномоченные, каждый день собирали они собрания, одно шумнее другого. Надо было, чтобы все вступили в колхоз «в кратчайшие сроки».
Два, очевидно, главных, уполномоченных определились на постой в нашу избу и жили у нас так долго, что я успел к ним привыкнуть и даже подружился с ними. Они были полная противоположность друг другу. Один из них, по фамилии Иринин, – высокий, с бледно-красноватым лицом, с холодными синими глазами и седым коротким ежиком на голове – был однорук, именно этому обстоятельству я приписывал суровый, неразговорчивый, замкнутый характер Иринина.
Другой – Лосев, – невысокий, чернявый, подвижный, не то чтобы полный, но вовсе не худощавый, лысоватый человек, был шутник и весельчак. Кроме того, он любил играть на скрипке и даже в такую командировку привез с собой скрипку. А так как он особенно любил играть в две скрипки, то постоянно к нам в избу был приглашаем пономарь, невысокий седенький старичок по фамилии Надеждин, с которым они и играли под укоризненные аскетические взгляды Иринина.
Теперь я понимаю, что оба они были хорошие коммунисты, но в то время Иринин чувствовал и считал себя, видимо, более коммунистом, чем его напарник.
Была жестокая снежная зима с окаянными ночными метелями. Поздно ночью возвращались друзья в наш дом, иззябшие, занесенные снегом, с красными от табачного дыма (на собраниях), от тусклой керосиновой лампы и просто от усталости глазами. Стряхивали с себя снег, пили чай, а потом ложились спать, перекладывая из карманов под подушки черные глазастые наганы.
Я совершенно не понимал тогда, о чем так горячо и так подолгу спорили между собой Иринин и Лосев после каждого собрания. Но уж доходило до сознания мальчишки, что Лосев убеждал Иринина быть подобрее и помягче. Выражение вроде того, что «силой не возьмешь», «надо доказать, убедить», «потеряем доверие народа», «перестанут верить большевикам», может быть и не доподлинные по своим формулировкам, но верные по смыслу, сохранились в моей памяти.