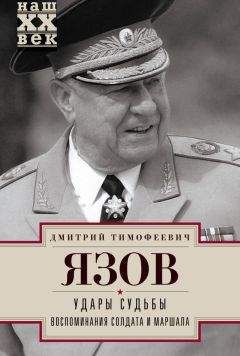Николай Горбачев - Ударная сила
— Как вы сказали?
— Я говорю, что мы посылали на отзыв вашу статью о «Катуни»... Отношение отрицательное. Вот профессор Бутаков. — Князев поднял листок со стола. — «Факты статьи не соответствуют действительности. При всей остроте и бойкости пера журналисту не удалось разобраться в сложном существе становления новой техники. Поспешность, поверхностность газетного выступления не будет способствовать усилиям целых научных коллективов...» — Князев читал ровно, бесстрастно, в такт голосу подрагивала вислая кожа на подбородке. — «К тому же трудно понять, что статья адресована коллективу, делам нашего конструкторского бюро, — она грешит эзоповщиной. Что касается случая, описанного с «сигмой», дело не в устарелости «сигмы», как намекает автор статьи, а в другом — высокой мужественности, героизме конструктора инженер-майора У.» Как видите, Константин Иванович...
Князев отложил листок, лицо вяло осветилось подобием улыбки.
Так вот в чем дело! И Коськин-Рюмин, не думая, как это будет воспринято, с сарказмом воскликнул:
— Но... Яков Александрович! Вы же понимаете, послать такую статью на отзыв Бутакову все равно, что послать карася к щуке с жалобой на нее!
— Ну, положим! — протянул Князев, и в этом «ну, положим» прозвучала предупреждающая холодность и уверенность. — Тут есть и другое мнение: «Публикацию статьи не считаю целесообразной».
— Чье? — вырвалось у Коськина-Рюмина.
— Маршала артиллерии Янова.
Коськин-Рюмин молчал: да, его прихлопнули. Прихлопнули, точно куренка, как сказал бы Беленький, просто кепкой.
— Что же мне делать? — спросил глухо.
— Работайте...
— Тогда я буду искать к этой теме другой подход.
— Пожалуйста! — Князев подал рукопись.
Взбешенный, еле сдерживаясь, чтоб не наговорить лишнего, Коськин-Рюмин не заметил, как до того в вяло, равнодушно глядевших под нависшими веками глазах Князева вдруг вспыхнул точно бы иглистый пламень. Вспыхнул и мгновенно погас. Не знал Коськин-Рюмин, рванувшись из кабинета, что замредактора, усмешливым взглядом вперившись в его затылок, думал, пока журналист выскочил за обитую дверь: «Ишь, вещуны революции! Новоявленные мессии... Небось полагает — с небес спустился, чтоб вверх дном всю журналистику поставить! А нам, выходит, что же... место уступать? Мол, пожалуйста? Нет. Мы писали, служили этой древнейшей музе и до вас... Так-то!»
Когда Коськин-Рюмин вернулся к себе в отдел, на «голубятню», в коридорной клетушке ни у дверей в морской отдел, ни у входа к «библиографистам-критикам» никого не оказалось. Обычно «литрабы», как по сговору, выползали сюда из кабинетов — покурить, перемолоть редакционные новости, обменяться анекдотами. Теперь было пусто, только за дощатой перегородкой моряков бойко стрекотала старенькая «Олимпия».
Впрочем, состояние Коськина-Рюмина было таково, что, и находись тут кто-нибудь, он вряд ли бы заметил: бешенство, колотившее его после разговора с заместителем главного редактора, сейчас сменилось апатией, бесчувственностью — так все провалилось! А ведь, чего греха таить, тогда, вернувшись с полигона и садясь за статью, уже предвкушал: выстегает кое-кого сибирским голячком, чувствительно будет...
И хорошо даже, что тут, в клетушке, сейчас безлюдно: начались бы расспросы, — вид у него, верно, тот еще!
Беленький в синей просторной толстовке, вытертой столом у подгрудья, пользуясь отсутствием старшего консультанта Смирницкого, смолил сигаретой вовсю, низко склонившись над столом: корпел над письмами.
Беленький, казалось, не заметил его прихода, однако Коськин-Рюмин только успел сесть, как тот, не отрываясь от дела, спросил:
— Очередной звон литавр?
— В корзину статья! «Работайте...» Черт бы его побрал!
— Стена, старик! — Беленький раздавил костистым пальцем окурок в самодельной, из ватмана, пепельнице.
— Об этом говорить надо!
— Не говорить, а делать.
Коськин-Рюмин не ответил: не хотелось вступать ни в какой разговор. Сработать впустую, «сработать на корзину» — такого у него еще не было! Он просто чувствовал себя оглушенным, раздавленным, будто его мяли, топтали и, измочаленного, бросили.
— Значит, сказал: работайте? Знакомо! Теперь что же — лапки опускать? На то мы и журналисты: выгоняют из одной двери, мы — в другую...
— Впустую, вот что...
— Впустую ничего не бывает! Инженерное образование... Новое несешь в журналистику! Будь у меня... — Беленький вздохнул с такой искренностью, что после всегдашней ядовитости и подковырок это прозвучало жалостливо. — Был бы, может, теперь не журналистом, а инженером.
Коськин-Рюмин раздумывал: «А что, прав Беленький: выгоняют из одной двери, иди в другую... Вот махнуть к Фурашову и не статью, а очерк накатать. Масштаб помельче, но людей показать и идеи ввернуть те же! Приглашал же Алексей в Кара-Суй».
И вслух проговорил:
— Вешаться не собираюсь, а на летучке скажу: новая техника — это общий ребенок, и всем о нем печься!
— У семи нянек дитя без глазу.
— Пусть тогда хоть жалоба на щуку не попадает к щуке, — не сдавался Коськин-Рюмин.
Беленький промолчал. Лицо его саркастически щерилось в дыму — сам дьявол из преисподней.
2
Свадьба была в разгаре, когда Фурашов с Мореновым в воскресенье приехали в Акулино. «Победа» остановилась у чайной, деревянного, с высоким крылечком дома, возле которого толпились деревенские зеваки, мальчишки же, точно мухи, обсеяли крыльцо и окна. Внутри, в доме, вовсю танцевали, через распахнутые окна вырывалась музыка — играл духовой оркестр части, — веселые вскрики, короткие припевки то и дело заглушали музыку.
С крыльца навстречу спускался председатель сельсовета. Фурашов, встречаясь с ним и раньше, в Егоровске, в райкоме, знал, что председатель — бывший майор. Ходил он неизменно в косоворотке. Сейчас на нем поверх заправленной в брюки свежей, чистой рубахи легкий, светлый пиджак, и весь он сиял радушием, молодостью.
— Здравствуйте, дорогие сваты!.. — троекратно, по русскому обычаю, перецеловался с Фурашовым, Мореновым, широко распахнув руки, сияя от щедрости, сказал, тоже чуть впадая в старомодность: — Милости просим в дом! К гостям, к невесте с женихом...
Музыка, голоса в доме оборвались: по цепочке через ребятню передали о приезде командиров. Лишь поднявшись по ступеням в прохладные деревянные сени, Фурашов отметил, что оркестр перестал играть, и обернулся к председателю:
— Чего ж, Иван Акимович, веселье остановилось?..
— Гостей готовятся встретить!
Фурашов хотел уже возразить, мол, зачем обращать внимание, как тут же две девушки, выступив сбоку, без слов надели ему и Моренову через плечо длинные широкие полотенца, расшитые красными петухами. Фурашов ощутил у шеи, у шрама, льняную свежесть, смутился, подумав, что, должно быть, в форме, с полотенцами через плечо, они с Мореновым выглядят смешно, снял фуражку, вошел в зал чайной, окидывая взглядом людей, длинный стол, заставленный едой, сдвинутые с мест стулья, табуретки. Оркестр грянул туш, и Фурашов поднял руку — оркестранты-солдаты перестали играть.
— Извините, товарищи, за опоздание... И потом договоримся: пусть свадьба идет своим чередом. У вас были танцы?.. Пусть будут танцы!
Кивнул оркестру, и старшина в углу вскинул узкую ладонь, оркестр ударил плясовую.
Взяв за локоть Фурашова, председатель повел его к молодым, в передний угол, и Фурашов увидел Метельникова с Варей, увидел, как они напряженно и с радостью смотрели на него, отмечал вокруг незнакомые и знакомые лица: тут было десятка полтора солдат, два-три офицера...
Фурашов глядел на Варю — мила, симпатична, что-то детское, трогательное было в ней, в как бы незащищенном взгляде, в губах, чуть припухших, возможно от поцелуев (верно, много кричали «горько»), в глухой белой кофточке, в тщательном зачесе волос, толстой косе. Метельников — смущенно-красный, и Фурашову вновь, как тогда, когда допытывался после угона машины, пришло: «Отец его, Михаил Метельников, покрепче был, тверже, сказано — рыбак! Но и сын, видно, с характером... Что ж, и машину угнать, и вот Варю отбить...»
Он пожимал руки молодым, поздравлял. Вслед за Фурашовым к невесте и жениху подходил Моренов, а когда закончили церемонию поздравления, с восхищением сказал:
— Молодые — загляденье! Грешен, люблю свадьбу... А вы?
Фурашову не удалось ответить, председатель показал на подходившего к ним старика:
— Калинаев Филимон Кузьмич, дед невесты.
«Вот он какой, дед Вари... Колоритная фигура!» — мелькнуло у Фурашова. Дед пробирался, расталкивая гостей, столпившихся возле жениха и невесты. И хотя он, видно, успел пропустить несколько стопок, отчего замасленная безрукавка-душегрейка была распахнута на плоской узкой груди, однако лицо с носом-картофелиной выглядело тяжело и сурово. Редкая бороденка смазана, блестит.
— Калинаев, значит, Филимон Кузьмич, — отрекомендовался он, подойдя к Фурашову. — Выходит, сватья бесштанные? За женишком-то ни кола, ни двора, ни даже сватов нормальных... По всем статьям...