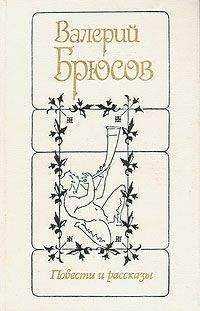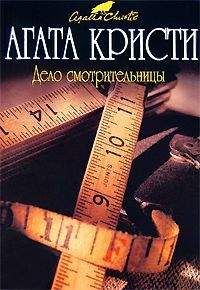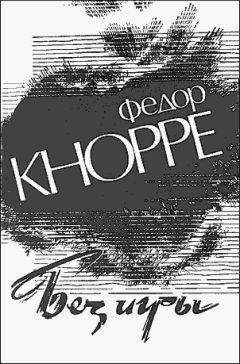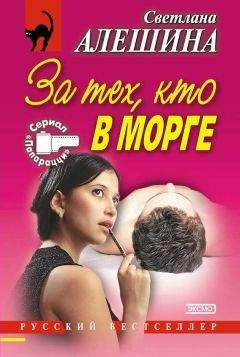Федор Кнорре - Рассвет в декабре
— И мне снится… Ах, до чего мне все снится.
— Так неужели… тогда счастье?.. — Она прямо ударилась мне в грудь, схватила мою голову, целует невпопад, повторяет: — Да?.. Да?.. Ты милый мой? — это слово «милый» она теперь только один-единственный раз произнесла. Не то что тогда, на балконе, все повторяла, твердила без памяти, спешила поскорее выговорить, как заклятье. Или оправдание? А тут только единственный раз сказала и потом все молча: не противилась, ждала — будет чудо опять или нет?
Мы обнимались молча, второпях, узнавая гладили, ласкали друг друга, точно двое слепых столкнулись на ощупь, в страхе потерять друг друга. Было так, будто мы знали почему-то, что вот так все надо делать, и мы только повиновались. Нам казалось, мы делаем то, чего желаем, а на самом деле мы просто не умели и ре могли иначе выразить то, к чему напрасно и одновременно мы рвались всей душой — оба друг к другу.
Может, это покажется странным, ведь теперь я знаю, что любил ее тогда и она тоже… конечно, любила, если это слово что-то определенное значит… А вот мы рвались друг к другу, любили и все натыкались на загородку, через которую жаждали пробиться, за какую-то границу, дальше физической близости, потому что этого одного нам было мало. И наконец поняли и убедились, что больше ничего не можем сделать, не можем прорваться дальше того, что могут наши руки, жалкие слова, поцелуи, все тело. А этого всего было нам уже мало. Почему-то мало. Мы оба одновременно почувствовали, что ничего к нам не возвратилось из прошлого, и нам почему-то неловко и стыдно стало того, что случилось. Нам даже стыдно стало оставаться на этом месте вдвоем, и мы поскорее, молча, оттуда ушли. А в скором времени я узнал, что она вышла замуж и уехала из наших захолустных мест. И когда мне это сказали — я даже не удивился. Нет, не удивился. Я как будто это уже заранее знал: что-то случится! Она ведь просила меня освободить — и вот, значит, освободилась сама и меня освободила: больше ни весны, ни зимы, ни осени мне нечего ждать. И как оно часто в жизни бывает: все тут на меня посыпалось разом, как из одного мешка.
Вдруг почему-то вызывают меня к тому моему приятелю Копченому. К Аникееву. Чего еще, думаю? У меня затылок болит и суставы ломит, и вообще мне все неинтересно, что мне где скажут и даже что со мной будет, — все до мертвой скуки безразлично. Старая моя болезнь ко мне возвращалась: холода, сырость…
Опять вызывают, повесткой. Тут уж приходится идти. Являюсь к Аникееву. Очередь в приемной, надо ждать. Я присел, к печке привалился и заснул незаметно скверным, тяжелым сном. Разбудили, у меня голова трещит, и очень мне жарко. Вызывают меня к Аникееву, он меня усаживает. Я сижу, жду, молчу, а он на меня что-то чересчур уж проницательно, неотрывно смотрит.
— Ты это что же? Может быть, успел узнать что-нибудь? — Я молчу, ничего не понимаю. — А ты не выпивши? Нет? А то глаза у тебя какие-то…
— Какие уж есть… — И замечаю наконец, что тут что-то не так. Почему-то первый раз в жизни приходит мне в голову, что этот Аникеев тоже человек. И мне это ужасно удивительно. Вдруг у него жена и, например, маленькая девочка, и он вот этими ручищами с желтыми ногтями пуговки у ней на детском лифчике застегивает, а она вертится у него на коленях и его за нос хватает. За этот вот его желтый, обкуренный нос, и он радуется. Такие посторонние нелепые мысли мне в голову лезут, скорей всего, потому, что он все сидит и как-то пронзительно любуется, вроде я дело его рук… точно он вот только что из глины вылепил мой бюст и рассматривает, как это я у него удачно получился. Поглядеть приятно.
Конечно, может, это мне потом уже так все представлялось, не знаю, не могу сказать, да и неважно.
Пододвигает он мне по столу коробку папирос. Ну что ж, я закуриваю, а во рту одна горечь.
— Ожесточенный ты человек, Калганов. У тебя началось с какого-то капитана и распалилась обида. И сделался ты чудак. Ты даже не очень старался вспомнить. От тебя добиваться приходилось. Это у тебя ожесточение. Ты много больше про себя помнил, чем вслух называл.
— И то стараюсь забывать.
— Вот какой ты перец… Кури, кури!.. Действительно, ты ссылался на свидетелей. А их никого почти в живых нет. Был у нас разговор, верно… Как того немца-то фамилия? Электрика, вольнонаемного на заводе-то? Где вы, лагерные, работали? А?
— Не все равно? Забыл.
— Неправду говоришь. Ну-ка?
— Да опять скажете, на покойника ссылаюсь.
— Покойник, точно.
— Ловко я придумал, значит.
— Одна закавыка, Калганов, тут есть в нашу пользу.
— В какую это нашу?
— Так назови фамилию, имя!
— Каульбах, что ли? Для отчетности вам? Пауль. Записали? Я ведь уже говорил.
— Правильно, Пауль. А закавыка в том, что, когда ты его назвал в первый раз, он ведь был жив. И угадать, что он впоследствии скончается от воспаления легких в областной больнице, ты не мог. И я это сопоставил. Вот, погляди.
Сует мне под нос развернутую брошюрку, придерживает пальцем, чтобы страничка не закрылась. Немецкая брошюрка, и в ней на четверть листка фотография: край чистенькой дорожки, кустики и сверху свешиваются тонкие веточки дерева над каменной плитой, уложенной среди подстриженной травы. Наискось, под утлом уложенная, как подушку кладут в головах постели. И на ней надпись некрупными буквами: «Пауль Отто Каульбах». Год рождения, смерти.
— Прочитал? Памятка, мемориальная доска. Это парк в ГДР. Разглядел? Так вот ты утверждал, что якобы ты подменил заключенного, которому этот Пауль одолжил свой пропуск и одежду. И этим объясняется, как ты очутился опять за колючей проволокой и так далее и так далее. И дальше все, может, и сходится… бывают чудные легенды, но тут ведь уж очень, а?
— Перебрал. Малоудачная у меня легенда.
— Даже слишком неудачная. — почему-то с великим удовольствием соглашается Аникеев. — Так вот жена этого Каульбаха жива. Что ты мне на это скажешь? — и впивается в меня своим прищуром, так что даже его всего чуть перекосило: один глаз совсем в щелочку сожмурился. После я узнал, что это у него от контузии, но случается редко такой перекос, только при волнении.
— Жена?.. При чем тут жена? Не знала меня его жена… Я… а-а, ну да, она только заходила в комнату. С ребенком на руках… Что она может знать?.. Она мне только дорогу к вокзалу показала… Впереди далеко шла. В темноте.
— Давай, давай дальше. Жена! Мало что жена, она, может, лучше десяти мужиков все понимает. Ты давай говори, говори…
— Да все. Я на электричку пошел, а она, наверно, домой ушла… Она даже имени моего не знает.
— Не твоя забота. Ты мне отвечай: она тебе что-нибудь говорила или не говорила? Припоминай.
— Я же объясняю: она, может, метров за двадцать от меня впереди шла. И в темноте. Какие разговоры?
— Да что ты все про темноту эту задолбил? Ты припоминай, что еще было или не было.
А я не соображу, что мне припоминать… В голове все темная улица, вокзал, электричка, и то все покрытое мутной пленкой. Я ведь не то чтобы забывал, но раз мне долго не верят, это для меня делается все и вправду как не совсем настоящее. Не то чтоб я вправду себе верить перестал. Я знал, что это правда, но говорить другим мне мука… Для меня правда, пока молчу, а произнесу вслух, она вроде ненастоящая. Подмоченная. Испачканная…
И опять я остро замечаю: тут что-то не то. Какого черта этот Аникеев радуется? И о чем я молчал уже давно, неважное, пустяковое, что можно только своему кому-нибудь рассказать, а чужому — нет, что я и сам полузабыл, вдруг мне открылось. Точно порог перешагнул и вижу трансформаторную будку, и хмурый Каульбах меня в плечо кулаком толкает: «Да она ведь правда тебя целует!..» А Аникеев кричит:
— Ага, вот ты и вспомнил. Ты вслух говори, а не про себя ухмыляйся!
Я почему-то понимаю, что ему сейчас можно, и, хотя у меня перед глазами туман пошатывается и мне глаза приходится таращить, чтоб яснее видеть, я доверчиво говорю ему глупость, о которой другому бы промолчал:
— Она, правда, обещала мне красивый галстук подарить… Через мужа передавала… шутка такая… Ну будто она обещается меня сколько-то раз поцеловать, если будет красоткой… Как Марлен Дитрих. Это киноактриса была…
— Сам ты киноактриса, Калганов! — Аникеев сияет, желтый как лимон на солнце. — Ведь ты даже Марлен Дитрих назвал!.. Я эти два куска провода один к другому тащил — тянул, и вот: контакт… Между прочим, все это в точности правда и неопровержимое доказательство. Брошюрку я тебе показываю — вышла в ГДР. ряд воспоминаний товарищей антифашистов и свидетельства очевидцев, и в том числе жены Каульбаха этого. Она полагала тебя, скорей всего, погибшим. Имени твоего она, конечно, и не слыхала. А ее имя знаешь какое? Интересно тебе? Ты вялый какой-то… Марлейн, только не Дитрих, а Каульбах, — вот ее подпись как выглядит. Удивительно толковая женщина, это редкость, до чего от нее получили исчерпывающее заявление на наш запрос. Галстук. И эта Дитрих-артистка и прочее. Подарила она тебе галстук, а! Какие у тебя планы? Ты на заводе не останешься, тебе ведь не по специальности, а? В Москву, наверное? Ну, желаю!.. Чего это у тебя рука горячая. Лихорадка?