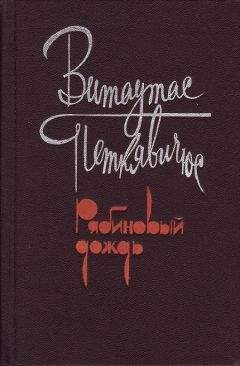Константин Федин - Города и годы
Глава о девятьсот семнадцатом
О ком думал генерал-фельдмаршал фон Гинденбург?
Этот дом был благополучен.
Он не мог не быть благополучным. Его окна горели на солнце таким огнем, точно в них были вставлены не стекла, а хрустальные многогранники. Он был умеренно сер, потому что был облит цементом, умеренно розов, потому что к цементу был примешан сурик, умеренно бел, потому что выступы и лепка фасада были чистенько отштукатурены.
Этот дом — с сотнями горящих окон, тяжелой, как храмовые врата, дверью, прикрытый гладкой чешуей кирпично-красной черепицы, — этот дом был умеренно приятен.
Всякий умеренно приятный дом, конечно, благополучен. Как человек, который стоит на своем месте, в галстуке, в манжетах, проглаженных брюках, с упорядоченными волосами на голове, в крепких башмаках и с своевременной улыбкой [251] на лице. Такой человек приятен, такой человек благополучен.
Так этот дом.
Он стоял на том месте, где начиналась аллея Бисмарка, как раз на том месте, где поставил его штадтрат и где его фасад пожелал увидеть единственный во всей Германии городской гласный еврей, герр Отто Мозес Мильх. На том месте, мимо которого каждое воскресенье в половине пятого пополудни проходили самые почтенные бюргеры города Бишофсберга, направляясь в прекрасный парк Семи Прудов отслушать вечерний концерт военной капеллы.
Самые почтенные бюргеры проходили мимо умеренно приятного дома, и каждое воскресенье, в половине пятого пополудни, вскидывали глаза под кирпично-красную чешую черепицы, откуда умеренно крупно смотрели буквы:
ГОРОДСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА имени ГОРОДСКОГО ГЛАСНОГО ОTTO МО3ЕСА мИЛЬXА
И тогда бюргеры, в визитках и с туго скрученными зонтами, в котелках и светлых жилетках, начинали говорить о том, что из мировой войны победителем выйдет тот, у кого крепче нервы, как справедливо сказал генерал-фельдмаршал фон Гинденбург.
— Но позвольте, герр ассистент, мы заговорились и идем по дороге, где можно ездить только на велосипедах!
— Ах да, герр гофрат, вы совершенно правы.
И они возвращались назад и сворачивали на дорогу для пешеходов. Бисмаркова аллея дели-[252]лась на три рукава, и в начале каждого рукава прочных столбах стояли вывески:
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ
Это приходилось как раз в начале аллеи, против дорожки, уложенной мелкими камушками и устремленной стрелой к подъезду хирургической больницы. И общество трех прочных столбов разделяли не менее прочные железные штанги с четко урисованными табличками:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ СОРИТЬ БУМАГОЙ И КОЖУРОЙ ФРУКТОВ СОБАК водить только НА ПРИВЯЗИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ НЯНЬКАМ С ДЕТЬМИ СИДЕТЬ НА ЛАВКАХ НЕ ЛОМАТЬ ВЕТОК НЕ ОБИВАТЬ ЛИСТЬЕВ НЕ РАСКОВЫРИВАТЬ ДОРОЖЕК ЗОНТАМИ И ПАЛКАМИ
[253]
ВЕЛОСИПЕДИСТЫ! СКОРОСТЬ НЕ БОЛЬШЕ 12 КИЛОМЕТРОВ ВЕРХОВЫЕ! ЕЗДА ТОЛЬКО ШАГОМ И РЫСЬЮ
И потом еще несколько очень мелко написанных объявлений с параграфами, пунктами, жирным шрифтом и курсивом. Под ними подписи штадтратов, полицай-президиума, союза защиты растений.
Бюргеры, в визитках и с туго скрученными зонтами, шли по рукаву для пешеходов и говорили о том, что из мировой войны победителем выйдет тот, у кого крепче нервы.
Липы, ровные и круглые, как перевернутые кофейные чашки, образуя четыре одинаковых ряда, вливались в синеватый парк Семи Прудов. По сторонам аллеи, в почтительном отдалении, крепко врылись в землю кубики каменных жилых построек. Умеренно приятный, сиял многогранным хрусталем своих окон облитый цементом дом. Бюргеры шли по рукаву для пешеходов, полковой адъютант рысью протрусил по рыхлой дорожке для верховых, по шоссированному полотну для велосипедистов проехал со скоростью двенадцать километров в час старший ординатор городской хирургической больницы имени Отто Мозеса Мильха.
Впереди бюргеров, идущих слушать вечерний концерт военной капеллы, ступают их жены с пакетиками и сумочками в руках. В пакетиках и сумочках — кухены и печенья, которые будут съедены за кофе, под музыку Шумана и Моцарта. [254]
Так было год назад, так было три года назад, так было десять лет назад и, наверно, так — сорок лет назад, когда в честь князя Бисмарка посадили в четыре ряда липы.
Мир прочен, мир крепок, а старик Архимед был большой шутник, со своим рычагом, которым можно перевернуть всю землю.
О ком думал генерал-фельдмаршал фон Гинденбург, когда сказал о нервах?
Бюргеры, в визитках и с туго скрученными зонтами, выступая по Бисмарковой аллее, помнят сразу десять правил, которыми они добровольно и сознательно обусловили свое пребывание на этой аллее. И если один забывает какое-нибудь правило:
НЕ РАСКОВЫРИВАТЬ ДОРОЖЕК ЗОНТАМИ И ПАЛКАМИ
другой напоминает ему об этом.
— Я понимаю, герр почт-секретарь, что в России революция, но как можно допустить, чтобы министров посадили в тюрьму?
О ком думал генерал-фельдмаршал фон Гинденбург?
Мир прочен, мир крепок, мир благополучен.
Но впереди бюргеров ступают их жены. В пакетиках и сумочках еще три года назад они носили бутерброды с вестфальской ветчиной, миндальные пирожные со сбитыми сливками и тончайшую салями, которую какой-то чудак назвал итальянской. Еще два года назад можно было слушать Моцарта, запивая музыку сладким кофе и покусывая рассыпчатый штрейзелькухен. И всего год, всего один год назад свой добрый рацион хлеба можно было как следует помазать настоящим фруктовым мармеладом! [255]
Но об этом можно говорить только со старыми друзьями. И говорить тихо, очень тихо, чтобы не слышали даже мужья, чтобы никто-никто! Вот так, шепотом:
— Фрау Эйзенбок, вы слышали?
— Что, фрау Буш?
— Она зацвела...
— Зацвела?
— Да.
— Когда?
— Я узнала вчера.
— Это — наверно?
— Да, фрау Буш.
— Говорят, она не цвела сорок пять лет.
— Об этом говорит весь город. Вы знаете ее историю? Ей больше четырехсот лет. Тогда жил в Аннаберге старик с сыном. Сын был распутник. Он дошел до того, что сказал, что нет бога. Отец решил ему доказать, что бог есть. Они спорили целых два года. Наконец отец сказал: я возьму молодую липу и посажу ее корнями вверх; если она примется — бог есть. Он так и сделал. И липа принялась и росла корнями вверх и все выше и выше и стала такой, что накрыла собой все старое кладбище Аннаберга. Последний раз она цвела в семьдесят первом.
— Значит, скоро?
— Т-ш-ш...
— Фрау Эйзенбок, какую вы носите прическу?
— Конечно, совсем гладкую.
— Значит, это тоже верно?
— Т-ш-ш. Недавно я была в театре и посмотрела вниз: почти все женщины были причесаны так.
— Я видела то же в церкви. [256]
— Но когда все, когда все до одной, во всей Германии!
— Только тогда, фрау Эйзенбок?
— Только тогда, фрау Буш. И не забудьте — совсем гладко, и посредине пробор.
— Да, да, посредине пробор.
Так впереди бюргеров ступают их жены, по воскресеньям, в половине пятого пополудни, направляясь по Бисмарковой аллее в парк Семи Прудов.
Может быть, бюргеры не знают всего, что знают их жены?
Но нет, мир крепок, мир прочен, и старый Архимед — шутник.
Посмотрите, посмотрите, бюргеры в визитках и с туго скрученными зонтами, посмотрите, как умеренно приятен облитый цементом дом!
Этот дом благополучен, он не может не быть благополучным, не может, не имеет права, не смеет нарушать правил, которые раз навсегда установлены для него министром народного здравия, штадтратом, старшим врачом и другими законными надлежащими властями.
Не смеет.
Впрочем, спокойствие. О ком думал генерал-фельдмаршал фон Гинденбург, когда сказал, что победителем из мировой войны выйдет тот, у кого крепче нервы?
Впереди бюргеров ступают их жены. О чем они?
— Т-ш-ш!
Письмо писала молодая сиделка. Руки ее дрожали, она не отдавала себе отчета в том, что делает, не видела, что пишет, только содрогалась [257] от крика, который висел в палате, и левой рукой, не переставая, коротко, боязливо, похлопывала по раскаленной щеке раненого, боясь поднять на него глаза.
И она написала, чтобы жена раненого приехала к нему повидаться, и еще — город, в котором раненый лежал, и название больницы, и номер палаты. Все это сделала сиделка, чтобы не слышать крика, обезумев от крика, позабыв параграфы, пункты, жирный шрифт и курсив инструкций, правил, разъяснений и приказов.