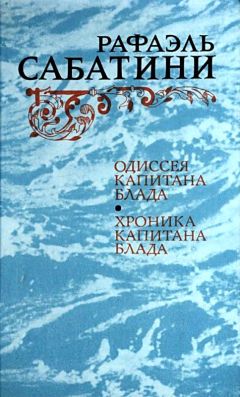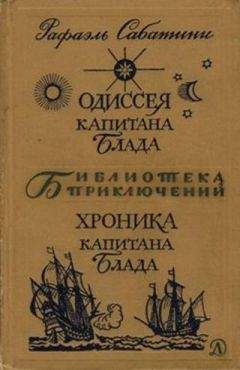Радий Погодин - Мост. Боль. Дверь
Нинкина картина — про себя он ее так называл — жила сама по себе, в каком-то медленном многоцветном кипении. Картина пугала Ваську мыслью: имеет ли он к ней какое-нибудь отношение? Ведь вторую, даже приблизительно такую, ему не сделать ни в жизнь, даже не скопировать эту, а ведь истина и красота живут повторениями…
И не верил Васька, что это он ее написал.
— Не верите? — спросил старик.
— Не верю. И не знаю, как это вышло.
— Было бы грустно, если б вы знали.
Старик повел глазами по коврам, висящим на стенах.
— Забавно, — бормотал он. — Забавно.
А Серёжа видел кирпичную осыпь, рояль, торчащий как сломанное крыло ночной птицы, и золото закатного солнца в осыпавшихся на асфальт стеклах. Слышал Сережа звук ее каблуков в тишине.
— Вы не возражаете, — спросил вдруг старик, — если я пойду куплю водки и колбасы? У меня мясные талоны не отоварены.
Васька покраснел, как если бы встретил Анну Ильиничну.
— Вы же только по праздникам.
— Сегодня праздник, — сказал старик.
Сережа вскочил.
— Я схожу. — В его ушах выла бомба.
Но, заглушая этот цепенящий звук, во дворе зачмокал футбольный мяч. Новые мальчишки, став в кружок, лениво перебрасывали его, стараясь не промахнуться.
Дверь
Улицы были белыми от белого солнца и белой пыли. Мины лопались сухо, как лампочки. Ветер тащил по асфальту бумажные астры — СОН.
Посреди тесной круглой площади в золоченом кресле сидит Старшина. Справа и слева от него стоят Каюков и Лисичкин. У Каюкова автомат в руке, как дубинка. Лисичкин с перевязанной головой. На бинте, на виске, почерневшее кровяное пятно.
— Ты, Петров, кто, по-твоему? — спрашивает Каюков. — Мы воюем как распоследние сукины дети, а ты диссертируешь.
— Повтори! Убью! — хрипит Петров, холодея от несправедливого унизительного упрека.
— Диссертируешь — от «диссертация», — уставным голосом говорит Старшина. — Через час выступаем. — И глаза его, серые, как черноморская галька, смотрят в ту сторону света, где всех их ждет война.
Сотрудники отдела феноменологии, в котором работал Петров, тоже видели сны, что естественно и полезно. Просто толкуемые — например: кто-то видел себя в заграничном ресторане «Moulin Rouge», что означало приближение дня зарплаты; кто-то видел себя на коленях у мамы, что означало желание сложить с себя всякую ответственность. И более сложные — например: собак, навоз, мел, воду, комолую корову, падающих с неба белых куриц. Но никто из невоевавших не видел себя на войне, а Петров Александр Иванович видел.
В мае сорок первого года его мама и тетя, артистки Ленинградского ТЮЗа, испросив разрешение у Брянцева, уехали на гастроли в Свердловск с бригадой от Госконцерта и Сашу с собой взяли. В Свердловске они и прожили почти до конца войны, так что детство Петрова было не опалено войной, как принято выражаться, но окрылено и приподнято. Война наполнила его детство мощью народного подвига — такого громадного, что у Петрова и его одноклассников коллективно останавливалось дыхание от гордости за свою детскую сопричастность к великому.
В начале войны школьная самодеятельность массово пошла выступать в быстро развернувшиеся в Свердловске госпитали. Она толпилась смятенными стайками у дверей палаты, пела и танцевала робко и скованно, иногда просто ревела в три ручья, и раненые, утешая ее, плакали вместе с нею. Саша Петров талантами артиста не обладал, потому пристроился к старшеклассникам, которые добились разрешения в райкоме комсомола и организовали на Свердловск-Товарной бригаду по ремонту вагонов. И война подкатила к нему кровью, грязью, гарью в развороченных, сожженных теплушках. Бригадирами от школы были у них Плошкин, Лисичкин и Каюков. Бригадиром от военной комендатуры был Старшина, немногословный, подтянутый и гибкий в талии, как перешедший в стан красных аристократ. Когда Старшина смотрел на Петрова, Петрову казалось, что взгляд Старшины не оптически прям, но охватывает его с боков, со спины и сверху, как магнитное поле.
Старшина ушел на фронт первым. Всем пожал руку. За ним исчезли Каюков и Лисичкин. Удрали в отремонтированном танке.
Пока механики-водители, приехавшие за машинами, махали девушкам шлемами и, перекрывая гудок паровоза, обещали не погибнуть в бою, эти двое залезли в танк. Если бы их ссадили, они бы вернулись, такой был уговор, поели бы, выспались и побежали бы снова.
Не смог убежать только Плошкин Женька: его вызвали сначала в райком комсомола, потом в райком партии. Женька позеленел от злости и ответственности. А Петров Саша именно в те дни начал видеть военные сны. И во всех его снах присутствовали Старшина, Каюков и Лисичкин.
Затем военные сны потеснила лирика.
Затем их потеснил быт.
Но последнее время они снова пошли. Сериями. Были в них требовательность и какой-то настойчивый зов.
Кроме военных снов Петров, конечно, видел сны разные. Среди их обилия и многообразия выделялись сны повторяющиеся.
Сон, от которого Петров просыпался чуть ли не с криком, назывался «Уход жены Софьи к другому». Софья в этом сне всегда показывалась молодой, с гордой осанкой и как бы в профиль, отчего ее грудь красиво прорисовывалась. Уходила она от него навсегда либо к артисту Баталову, либо к артисту Яковлеву, либо к артисту Мастроянни Марчелло.
Вторым повторяющимся сюжетом в сновидениях Петрова была «Прогулка по городу».
Город всегда был другой, но очень красивый, с каналами, часто с морской набережной и многофигурными памятниками. И всегда с пустыми домами, сильно тронутыми разрушением. На морском рейде было много пароходов. И вода была ярко-синяя, с отраженными в ней белыми облаками. Но, приглядевшись, Петров вдруг отчетливо различал, что пароходы те ржавые, с выбитыми стеклами в салонах и капитанских рубках. Усилием воли Петров наполнял улицы городов народом, в основном сослуживцами. Но сразу же становилось ясным — этот уличный народ к городу отношения не имеет, просто толпится, назначенный присутствовать при чем-то, Петрову не совсем ясном.
Лидия Алексеевна Яркина, доктор наук, заведующая отделом, толковала «Прогулку по городу» следующим образом:
— Вы, любезный Александр Иванович, всей душой хотите встретить и полюбить красивую ВАШУ женщину.
— У меня есть жена, — застенчиво возражал Александр Иванович.
— При чем тут жена? Нет более случайных женщин, чем жены! — Лидия Алексеевна вставала — повышая голос, она всегда вставала, — поднимала руки над головой, чтобы поправить прическу. Ее густые рыжие волосы шли волной за ее руками — казалось, она колдует. — И вообще! Один знаменитый московский поэт сказал: «Лишь немногие жены понимают, что барана нужно держать на длинной веревке, иначе баран убежит вместе с колом».
Лидия Алексеевна была близорукой и свободной. Имела сына. К Петрову относилась почти как мама, хотя и была молодой.
— Вы талантливый человек, Александр Иванович, — говорила она. — Но ваш талант вы сдали в ломбард подсознания, и вам сейчас не на что его выкупить. Вы слишком многое сдали в этот ломбард. Не думали, что качества превращаются в свойства. Непроявленный талант чаще всего превращается в угрюмость, или застенчивость, или желчность. У вас — в боязнь женщин.
Женщин Петров действительно побаивался, как все мужчины, выросшие без отцов, под неусыпным оком и неустанной добротой мам и теть в Тихом и Великом океане их нежности.
И нельзя о Петрове сказать, что однажды он решил начать новую жизнь, но все же такой поворотный день в его жизни случился.
Местный комитет института направил Петрова, как человека безответного, в комиссию по проверке подвалов.
Комиссия собралась в коридоре жилищно-эксплуатационного треста № 1, от имени которого должна была действовать, — сплошь пожилые мужчины. Они быстро сплотились, решили жить весело, но тут из двери под дуб вышла женщина с крепкими икрами, хорошо развитым бюстом, с волосами цвета железной стружки, оглядела всех, как бы принюхиваясь — зубы у нее были из нержавейки, — и сказала хриплым и негромким, но не вмещающимся в коридор голосом:
— Люди, люди, не ходите чужими дорогами.
— Да кабы знать, которые наши, — ответил Петров.
Женщина навела на него глаза. Были они как торцы световодов, уходящих в запредельную даль, и свет оттуда был мертвым светом.
— Я председатель, — сказала она. — Скромно будем работать. Скромно. В скромности наша сила.
— Так ведь действительно — кабы знать, — прошептал Петров, густо краснея.
Женщина-председатель охладила его стальным свечением своих плоских глаз. Но Петрову показалось вдруг, что в их глубине, в запредельной дали, заголубело и зазеленело ожидание.
Канарейки души