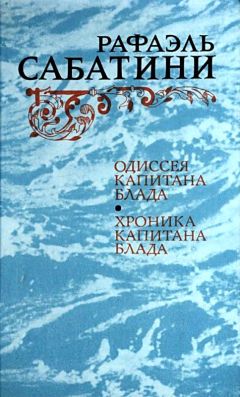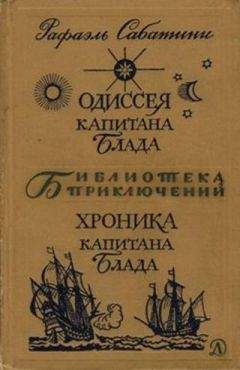Радий Погодин - Мост. Боль. Дверь
— Молчи, Сережа. Я не хочу их видеть. Война — остальное все глупости.
— Мы победим, — сказал Сережа.
— Еще бы Папа и дядя Алеша на фронте. Оба на Севере. Жалко, что нам с тобой мало лет.
Сереже обрадовалась и Манина мать. Она похудела еще больше. Работала она теперь паспортисткой — раньше была искусствоведом.
Манина бабушка в черном платье, тоже похудевшая, но с еще более непреклонным взглядом, сказала:
— Рада вас видеть, молодой человек. Сейчас сядем обедать. Очень я не люблю, когда за столом мало людей. Но это бывает, когда война и когда эпидемия, — ничего не поделаешь…
Сережа покраснел, он позабыл, что здесь обедают всегда в одно и то же время, и, не думая, подгадал к обеду.
Старуха села на свое место во главе стола. И все сидели по своим местам. Между старухой и Маниной матерью стоял пустой стул. И вся противоположная сторона стола тоже была пустой — Манина тетка эвакуировалась с театром в Алма-Ату.
Домработница, тоже старая, ее звали няней, разлила по тарелкам овсяный суп. Обнесла всех хлебом — каждый взял себе по кусочку, в хлебнице остался кусочек для няни. Она села на свое место, напротив старухи. Она всегда там сидела. Маня говорила: Как революция произошла, дед привел няню в столовую и посадил ее на это место.
Манина бабушка оглядела портреты адмиралов, задержала взгляд на своем муже, он был в советской форме, оглядела присутствующих за столом, как бы сосчитала их, и спокойно произнесла:
— С богом.
Когда Сережа с матерью садились за стол, то их обед пока еще мало чем отличался от довоенных; этот же громадный, покрытый крахмальной скатертью стол с многочисленными пустыми стульями, на которых раньше сидели гости, чаще всего ребята, как-то обострял чувство долга, придавал ему некий священный аскетизм — и не обедали они за этим столом, но совершали клятвенный ритуал на верность отечеству.
— Ты приходи к нам, — провожая Сережу, Маня погладила его по плечу. — Ты нас забыл.
— Теперь приду, — сказал Сережа.
Но встретились они только после войны, случайно, на подготовительных курсах Горного института, и такое уже было между ними внешнее и внутреннее несоответствие, что Сережа ощутил себя как бы неполноценным: в армию его в прошлом году не взяли — обнаружили туберкулез; худущий, большеглазый, он мог спокойно сойти за пятнадцатилетнего паренька: говорил вежливо — краснел, а Маня курила, было ясно, что пьет, — голос хриплый и речь груба.
Он только спросил у нее:
— Почему ты не в медицинском?
— В недрах чище, чем в потрохах. И ответственности, и вони меньше, — сказала она, разглядывая его как диковинку.
К ней он не приходил, хотя она его и звала пиво пить. Сказала ему, что у нее померли все: и бабушка, и мама, и няня. Мать не от голода померла — рак легких.
И вот сейчас он звонил Мане из автомата.
— Не поздно, — спросил, — звоню?
— Да нет.
— А если я к тебе загляну? Я у Елисеевского.
— Сережа, Сережа — вдруг закричала она. — Послушай, ты же не знаешь. Вход со двора, по черной лестнице. Квартира четырнадцать. Понял, по черной лестнице?
Он подумал:
Чушь какая-то — почему со двора?
Открыла Маня.
Пахло ванилью.
Кроме Мани в кухне была еще одна молодая женщина. Сестра, — сначала решил Сережа, даже воскликнуть хотел: Привет, Юлия Но разглядел — эта постарше и как бы другой породы: тоньше в кости, уже в талии, и главное — голова ее не была такой лобасто-тяжелой.
— Ирина, мачеха, — сказала вместо приветствия Маня. — Дай тете ручку, не стесняйся. Сережа поклонился.
— Сережа, мой довоенный дружок. Видишь, с какими мальчиками я до войны целовалась. Девочка была. — Маня как-то некрасиво подмигнула мачехе. — Для меня тогда поцелуи были вроде состязаний на недышание.
— Со мной ты не целовалась, — сказал Сережа.
Маня кивнула.
— Почему вход у вас по черной лестнице?
— Потому что нет бабушки. Сара Бернар из столовой себе кухоньку образовала, ванную и туалетик — на унитазике у нее шелковая подушечка с дырочкой. — Сарой Бернар Маня называла свою тетку-артистку, и еще Элеонорой Дузе. Комиссаржевской реже, лишь когда нужно было унизить ее до праха.
Квартира и раньше имела два ордера. А когда тетка вернулась из эвакуации, она первым делом учинила раздел. Она ножкой дрыгала от восторга. Манина мать только что померла. Маня жила одна, и ей, как уже тогда говорили, все это было до лампочки.
— А шпаги? — спросил Сережа жалобным шепотом.
Маня закашлялась и кашляла долго — смеялась и кашляла.
— Мы ровесники, — наконец прохрипела она, брызжа слезами. — Мне уже скоро рожать, а ему шпаги. Свистульку не хочешь?
— Успокойся, Маня, — сказала мачеха. — И рожать тебе еще не скоро.
Маня всхлипнула и вдруг заплакала, отвернувшись, вытирая глаза рукавом халата.
— Прости, Сережа, — сказала она. Сережа поймал на себе взгляд Маниной мачехи, предостерегающий от вопросов и удивлений.
— Что ты, Маня, — сказал. — За что прощать-то? Я очень рад, что я к тебе пришел.
Он ощутил некое зыбкое равновесие, по всей видимости недавно возникшее в Манином доме. Здесь нельзя было делать резких движений и поворотов. Правда, мачеха Ирина была наготове.
Потом пили чай с теплым еще ванильным печеньем. Сереже было хорошо в знакомых до мелочей стенах. Каждая вещь здесь, каждый предмет — все было сделано из того прозрачного камня, в котором что-то клубится.
Часть шпаг и адмиральских портретов висели в кабинете Маниного отца. Самое интересное и самое ценное папа и дядя Алеша сдали в музей, — объяснила Маня. — У нас, оказывается, хранились шпага и пистолет адмирала Сенявина.
Девчонку с Васькиной фотокарточки Маня не знала, никогда не видела, но стала грустной. Мачеха закурила.
— Не бывает таких, — сказала Маня. — Это Васькин кунштюк.
Сережа подошел к роялю. Ему захотелось не музыки, он не мог сыграть даже собачий вальс, но услышать звон и гудение струн. Он нажал педаль и коснулся клавиш. Он чувствовал, что девчонку эту он знает, видел.
Когда Сережа ушел от Мани, — светало.
— Ты приходи, — попросила Манина мачеха, провожая его.
— Приходи — крикнула Маня.
Конечно, он придет и будет терпеть Манины шквальные обиды и равнодушие. Сережа представил, как познакомит с Маней Анастасию Ивановну, и губы у Анастасии Ивановны станут жесткими. Это же Маня, друг детства — чуть не крикнул Сережа вслух.
Слишком много у твоего друга детства за пазухой-то — сдюжишь ли? — скажет Анастасия Ивановна.
Город был обнаженным и тихим — он напоминал рояль с поднятой крышкой.
Сережа шел по Невскому, и чем ближе подходил к зданию Главного штаба, тем тревожнее становилось у него на сердце. Сережа вытащил из кармана девчонкину фотокарточку. Нога его подвернулась. Резкая боль, как сквозняк, распахнула в его памяти душные, обитые войлоком двери: он услышал сирену воздушной тревоги, увидел людей, спешащих в бомбоубежище, закатный свет солнца и девчонку, идущую впереди него по опустевшему тротуару. Сирена замолчала — только ровный стук девчонкиных каблуков. Да еще с той стороны Невского из ворот школы кричала дворничиха.
Сережа догнал девчонку на углу улицы Гоголя. Хотел схватить ее за руку. Девчонка отстранилась, покачала головой, отказываясь прятаться в бомбоубежище, и пошла, ускорив шаги, к Исаакиевскому собору. Сережа хотел было за ней побежать и тащить ее в укрытие, но что-то удержало его, что-то темное, от чего вдруг заныло сердце.
— Балерина несчастная — закричал он. — Сейчас бомбить будут
Сережа не сразу услышал вой бомбы — сначала почувствовал его затылком. Заскочил на крыльцо сберкассы, за гранитный столб. Над ним навис дом, похожий на дворец дожей, тяжелый и угрюмый. Девчонка на той стороне остановилась, подняла голову. Он помнил ее глаза, синие, как на картинках, как небо детей и пророков.
Сережа вжался в колонну, расплющенный бомбовым визгом.
Сухо и сильно треснуло, словно рядом ударила мощная молния. И сразу же, смахнув пыль со всех подоконников и карнизов, загремело раскатисто с грозными обертонами, потрясло асфальт мостовых и фундаменты зданий. Посыпались стекла. Пыльный вихрь оцарапал Сережу сотнями острых граней.
Может, Сережа и убежал бы, но на той стороне улицы, на тротуаре у фруктового магазина, лежала девчонка.
Широкий угол дома с вывеской Фрукты сползал на нее. Некоторое время стена оседала целиком, но сломалась и рухнула наземь, сминая самое себя и крошась в клубах пыли. Сережа стоял, не двигался. И всего-то времени утекло — пять раз ударило сердце.
Из известковой тучи выпадали на асфальт осколки. Туча редела, и уже очертилась под ней гора кирпича, деревянных балок и штукатурки. Угол дома был широко срезан. Пыль оседала.
Обнажились оклеенные разноцветными обоями стены квартир. На третьем этаже у стены стояла кровать с розовой от кирпичной пыли подушкой. На четвертом — на голубой стене криво висела картина. И на самом верху, зацепившись ножкой за балку, висел рояль. Крышка рояля открылась, обнажив его как бы расчесанное нутро с киноварью и позолотой. Но вот ножка хрустнула, рояль полетел вниз, медленно переворачиваясь и как бы взмахивая крышкой, и упал, зазвенев. Звон этот был печален и долог. За роялем упала и кровать. Осталась висеть картина на голубых.