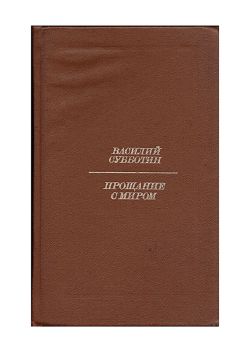Василий Коньяков - Далекие ветры
Освежает тело прохлада от земли под навесом. Жена несет из-под горы воду на коромысле. Дуня маленькая, и ведра приваливают боками траву вдоль тропинки. Сергей смотрит в лицо жены, ловит ее взгляд, а в глазах готовая насмешка.
Дуня знает, что насмешка эта будет непутева, и заранее готовится сдерживать улыбку, не слышать Сергея, не отвечать. Она не умеет принимать его шутки, заливается стыдом, отворачивается. У нее расставлен шнурок на юбке, округлился живот — скоро будет у них второй ребенок.
Вот и все, что есть у Сергея, хотя живет он в Сибири уже шесть лет.
Не все так начинают… Соседи Вагановы построились большим двором. Двор обнесли тыном, обложили от задов высоким валом навоза. А у избы от соседей по тыну поленница дров, уже потемневшая на солнце. Поленница стала почти глухой, отбрасывает тень на нижнюю половину окон. Над двором Вагановых жаркими днями колышется маревом испарина от навоза, от обожженной солнцем соломы, щепы.
Вечером Прасковья Ваганова носит из-под горы воду — поит скотину. Коровы осторожно притрагиваются носами к воде, и при первом тяжелом вздохе вода медленно уходит до половины ведра, а второй вздох уже не полой — ведра малы, и лбы коров упираются в жестяные края, стараются их раздать.
Вагановы — Ефим с Прасковьей и свекор — на рассвете уезжают на стан, дома остается свекровь.
Вечером возвращаются на конях, машину-хлебокосилку ставят во двор, кидают на ночь коням зеленку. Ложатся рано. Ни огня в окнах широкой избы, ни стука. Хрустят зеленкой кони. Спускается вечер. И кажется, сумерки начинаются от дома Вагановых, сгущаются над их двором лоснящимися под холодным небом лошадьми, а потом растекаются по всей улице.
Ехали Вагановы с Сергеем из России в одном вагоне. Пили кипяток с черствым хлебом. Сумел неразговорчивый отец придержать при себе что-то, отложить из крестьянских доходов в России, и это «что-то» буйно стало разрастаться в Сибири. Вагановы на своей пашне работали молчком, исступленно — дорвались до земли.
Растеклась деревня Лесновка от узла на четыре улицы. Забелела среди березняка первыми срубами изб, запылила проселочной дорогой к разбросанным в отдалении станам. Вечерами поднималось с низины в деревню свежее дыхание согры.
Сергей ехал в Сибирь — думал о земле, а увидел, как туляки запахивают полосы, не зная границ, недобро загораясь глазами, — к земле остыл и даже в волости на себя надел не оформил. Взял пять пудов пшеницы, заработанных в найме, отвез в Кольчугино, накупил столярный инструмент. Долго, до самых сумерек не уходит из-под своего навеса.
Вагановы приедут с пашни, сгрузят пиленые дрова, сложат в поленницу — лес даровой, никто валить не запрещает, зайдут в избу и, не зажигая огня, затихнут.
Сергей смотрит на сумеречную избу Вагановых и не может унять досаду. Он не знает, отчего эта досада, долго сидит один и уже в темноте выходит на улицу. Улица глуха. Между амбарами — отделанные резьбой ворота, за ними тесовые, цвета полыни под рассеянной луной, крыши шатром. Улица крестовых домов. Ночью деревянная резьба под навесами крыш в тени, будто у луны уж и силы не хватает высветить все. Тень глуха. Изредка помаячит узор дорогим кружевом, как скупой чекан по серебру, и спрячется, не считаясь с твоим желанием видеть его.
Сергею кажется, и чалдоны сродни этим домам — недоступного характера, без заигрывания. Какой есть — таким меня и принимай. Недостойно перед людьми собой красоваться.
И не любит Сергей бывать в их домах. И окна в них большие, с богатыми разворотами наличников с улицы, а зайдешь в дом, солнце будто не может осветить их, ломается по углам, по ступенькам, ведущим за печками в подполья, и даже днем оно худосочно, оставляет полусумрак в кути.
Передние углы горницы заставлены медными иконами — одна на одной, с тусклым блеском позолоты и недобрыми глазами. Непрогретость омедненного воздуха тяжела, будто иконы дышат металлом.
А российские привезли с собой красивых богов. Голубых, под стеклом в глубоких ящичках. Фольговые цветы вокруг головок кротких женщин.
Недобры иконы. Неприветливы люди. А не упрекнешь. Многим женщинам работу дали. Девчонок сиротских няньками пристроили. К взрослым настороже, хотя присматриваются к делам малевских. Из огородов рассаду стали брать, переносить пестроту огородов российских баб на свои грядки, перенимать хозяйство чужаков.
Сергей радуется беспечности и доброте малевских, хочется ему поймать, найти какое-то неуловимое свое превосходство. Будто кто налагал на него обязанность доказать, что люди ехали из России в Сибирь не только за хлебом, а за красивой, вольной жизнью, за работой, которая вместила бы в себя без остатка всю душу. Для себя он нашел такую работу, определил и от имени российских должен ее показать.
Сергей ходил вдоль улиц, вспоминал Вагановых, ловил приехавших вместе с ним из Малевки людей на недостойном, и горькая досада приходила к нему.
У чалдонов вечером корова домой не вернулась. Просоловы собрались с ружьями. Все молодые… Искали по лесу — не нашли. А вечером смотрят — сороки кружатся. Не с добра. Пошли в согру, а в чаще мясо кожей закрыто. Сели, стали ждать. А малевский мужик Митяй с напарником — вот он. Митяй и в Малевке пакостился. Поймали. Завернули в кожу, повели через деревню. Ружьями били, прикладами. Митяй хромать после этого стал. Скособочился. Из деревни уехал. А напарника его — насмерть.
Не забывается, как прибежал с Матвеем отбивать Митяя. Колья в ограде выломали. Митяй уже лежал в пыли, вяло вздрагивал.
Иван Алексеевич Просолов Митяя не бил, в стороне стоял. Но именно он возбуждал мстительную силу молодых.
— Что, паря, своего парнишончишку узнали?.. Изнатти хиль… Голытьбинчишка… Приехали посконью трясти… Да еще пакостить начали… А наша сарынь за это… учит.
Ему не жалко было коровы. Ему радостно было издеваться… Он победно смотрел на Сергея издалека… А этого прощать не хотелось.
Сергею казалось, что есть у него свое, недоступное другим умение. Он стал плотничать. И начали появляться в деревне маленькие пятистенники, приветливые добротой окон.
К сумрачным улицам крупных домов прибавились легкие избы струганых срубов. Первую избу Сергей ставил Махотиным. Стал отделывать косяками окна — полюбил и строганый лес, и этот дом.
Слышала деревня стук топора и шуршанье фуганка до поздних сумерек. И мужики полюбили этот дом и Сергея в нем — стали заходить к нему вечером — покурить на бревнах, посмотреть из окна, как в тени по дороге стадо коров домой проходит.
Веселый дом получился. До ночи в нем светло. Наделил плотник его своим характером.
Заходят мужики в дом и чувствуют янтарное свечение дерева, будто оно и вечером пропускает дневное солнце. Трогают корявыми руками отстроганную матицу, створчатую, с выбранными квадратами, дверь, еще не крашенную, ласкающую смоляным запахом. Пыльные мужики в отделанном Сергеем доме и сами становились светлее. Умел находить Сергей верное место окнам. Когда закончил отделку избы, хозяйка Махотина, не сознавая своей похвалы, сказала:
— На что я темноты боюсь, а в этой избе одна ночевать останусь. Ни одного темного угла для страха не оставил.
Сергей улыбнулся.
IV
Не зажигался землей Сергей. А мужики, как только переставал исходить от земли пар, солнечными утрами вешали на плечо насыпанные зерном кошелки и, широко откидывая руку, шли по своим вспаханным полям.
Оставив на минутку дела, выбегали к межам женщины, чтобы глянуть на землю, на мужей с кошелками, на утреннее действо посева, украдкой постоять, прижимая к груди руки, предчувствуя по осени горячий запах хлеба, и убежать, чтобы не застали их, не увидели за праздным бездельем мужья, к своим делам в стан, обставленный жердями, и любить его, и копаться в нем до вечера.
Летом подступит к стану, скрывая до самых крыш, подсолнечник. Он колышется поутру, ищет солнце желтыми венчиками. Не подойдешь к нему, не тронешь — шершавы разлапистые листья и ствол в жестком серебряном бархате.
И счастливы люди ждать у стана, у своей земли вечера, сумерек, не спешить домой кормить избегавшуюся по улице ораву детей и упасть в сон.
Сергея манит по вечерам синева лесов за согрой. Пугала когда-то Сибирь отдаленностью, морозами, каторжностью. А она встретила солнцем с необжигающей лаской, тяжелой росой на лозняке, щедрыми и тихими реками. Налитый, не искалеченный ветрами, не успевший покривиться, стоял березняк, и млела в сквозных бликах трава под ним.
Есть в Сибири какая-то незащищенность. Даже в мощном ее цветении что-то детское, не завязавшееся в сопротивлении со сквозняками и палящим солнцем. Над Сибирью стоит щадящая умеренность и голубизна.
И даже зимой она не сбивает сорокаградусными морозами. При неподвижности остекленевшего месяца порошит снегом, бодрит без злобы.