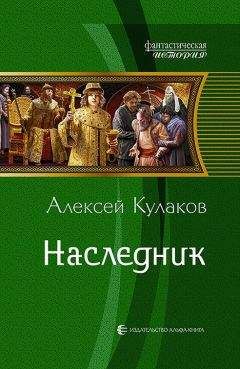Юрий Яновский - Кровь людская – не водица (сборник)
На рассвете они добрались до жилища Веремия. У ворот их встретил хозяин, широкоплечий мужик с короткой шеей, с длинными, могучими руками. Так же, как его хутор врастал в мягкий торфяник, врастал в землю и сам крутолобый Стратон Веремий.
— Боже мой! Денис Иванович, что с вами? — участливо спросил он, увидев, как мучительно загребали землю ноги Бараболи.
— Беда, Стратон Потапович…
Веремий выскочил на тропку, оглянулся, обошел вокруг агента и уже спокойнее сказал:
— Это, слава богу, еще не такая беда. Я пришлю свою ведьму, она вам все язвы за три дня заживит.
— Пошепчет? — криво усмехнулся бескровными губами Бараболя.
— Нет, у нее зелье.
— А хуже не сделает?
— Она, Денис Иванович, хоть и пигалица еще, а выхаживала и таких, что одной ногой в могиле стояли, поверьте мне.
— Что ж, придется поверить, — вздохнул Бараболя и пошел с Погибой в столярку.
А Веремий забежал в хату, потом вывел из конюшни лошадь и поскакал в рощу, сизую от утренней росы.
Через час, когда Погиба как раз собирался завтракать, а Бараболя охал, лежа на топчане, дверь в столярку осторожно приотворилась и на пороге появилась тоненькая девушка в берестяных лаптях и старенькой юбке.
— К вам можно? — тихо спросила она.
Погибу удивило и насторожило ее появление: он знал, что в столярку не мог прийти никто, кроме хозяина.
— Заходи, заходи! — пригласил он гостью, вставая.
Девушка неловко затворила за собою дверь, поклонилась подполковнику.
— С добрым утром вас.
— Доброе утро, девушка. Ты кто будешь?
— Батрачка у дяденьки Стратона. Марьяной меня зовут.
Она подняла голову, и Погиба увидел на узком лице брови, каких до этих пор нигде не встречал: они широко и размашисто взлетали двумя сверкающими черными крыльями от переносицы к вискам. Эти черные крылья будто влекли ввысь всю хрупкую плоть девушки. Такие брови могут только во сне присниться! Но под ними не сияли, как можно было ожидать, а молили испуганные глаза; в этих глазах угадывался застарелый страх, и тени его, казалось, лежали на всей тщедушной фигурке Марьяны.
— Ты что-то хочешь мне сказать? — Погиба залюбовался девушкой, по глазам определяя, что жизнь у нее нелегка.
— Нет. — Она смущенно опустила голову. — Хозяин велел, чтобы я кому-то тут раны залечила.
— Так это ты… лечишь людей? — спросил пораженный подполковник. У него едва не вырвалось: «Так это ты ведьма?»
— Приходится иногда… — Девушка ответила на его изумление жалкой улыбкой, дрожащей в ямочках щек.
— Кто же тебя этому выучил?
— Мама. Она во всяких зельях разбиралась. — Девушка произнесла эти слова почтительно и гордо.
— И что ж она могла вылечить?
— Всякие раны, кости сращивала, лишаи, экзему выводила…
— Экзему? — Подполковник удивился, что девушка знает такое слово. — А чем она выводила?
— Перегоняла дерево орех… Так кому тут пособить?
Погиба кивнул головой на топчан, и Марьяна подошла к Бараболе, который не сводил с нее глаз. Он мало верил в знахарские снадобья, но лицо Марьяны — бровастое, с прямым маленьким носом — чем-то привлекало его.
Девушка поставила на табуретку баночку со своим зельем, стыдливо нагнулась над Бараболей, и ее пальцы осторожно, ветерком, пробежали по его налитому жаром телу.
Когда Марьяна вышла, Погиба улыбнулся.
— Ну, как вам эта… ведьма? Нравится?
— Нравится. И вы знаете — утихает боль, и жар спадает. Она и самом доле кое-что смыслит.
— Возможно. А похожа она знаете на кого?
— Нет, не знаю.
— На лесную русалку.
— Красивая девушка.
— Ничего, только от ветра клонится. Верно, у ней харчи похуже наших. — Погиба показал глазами на стол.
X
Бог для того послал на землю ночь, чтобы в тиши росли травы и отдыхали люди. В эту ночь, может быть, и поднималась под осенними звездами ранняя озимь, но люди мало отдыхали. Не клонило ко сну тех, кому предстояло получить землю; не спали и те, кто лишился части своих всеми правдами и неправдами добытых урочищ и хуторов.
Не успели еще одни разойтись с комбедовского собрания, как по селу осторожно засновали другие и по стеклам окон тихонько забарабанили те руки, которые степеннее всех крестились в церкви, а на рынке ловчее всех тянулись к рублю.
Больше всего денег прошло в селе через руки лавочника Митрофана Созоненка. Веснушчатый, точно кукушкино яйцо, скрестив на груди проржавленные руки, он недвижным идолом сидел за прилавком и рыжим бесом широко гулял на свадьбах да крестинах. Там Созоненко не пропивал денег и не приносил подарков, а при всех вынимал из городского бумажника долговые расписки и величественно бросал на приданое молодой или на зубок новорожденному. А в селе как в селе — по-всякому смотрели на выходки богатея, чья рука навеки легла на аршин, и расписки его прозвали «Созоненковы деньги». Это не смутило, а только возвеличило Митрофана в собственных глазах, и он даже заготовил для расписок разноцветные, одного размера листки бумаги, чтоб они в самом деле напоминали людям настоящие деньги.
В этот вечер, после невеселого ужина, Созоненко запер изнутри и снаружи свою просторную лавку и нетерпеливо ждал, кто первый принесет ему с комбедовского собрания дурные вести о земле.
В дверь робко просунула скособоченные плечи изможденная женскими болезнями Надежда. Муж поднял голову, посмотрел и — жена словно провалилась во тьму смежной комнаты, только дверь по ней вздохнула.
«Падаль», — тоскливо, в который уж раз подумал Созоненко, как будто Надежда была виновата в том, что он женился без любви, не на ней, а на ее богатстве.
Митрофан взял ее пятнадцати лет, когда у ней еще и месячные не начинались, и бедняжка забивалась от него во все темные уголки, словно предчувствовала, что замужество не принесет ее телу и душе ничего, кроме боли. Так и случилось. Даже на хороших харчах женщина жирела, желтела, сохла. От нее не отходили шептухи и знахарки, а Митрофан в ярости прозвал ее «мешком нытья» и зачастил к другим бабам.
Жена принесла ему в приданое не деньги, а десятины, — чтоб они сгорели вместе с нею, ибо теперь эту землю забирали у него. Забрали бы вместо с землей и жену — все легче будет вспоминать о своем брачном ярме. Даже родить — на что уж нехитрая наука! — не могла по-людски. Все выкидывала и выкидывала. Только одного сына выходила, да и тот в журавлиную породу пошел — худющий, бледный, как побег проросшей в подполе картошки.
Во дворе неистово залаяла собака. Митрофан, не одеваясь, вышел из хаты, подошел к глухому забору, приложил к нему ухо и уж потом спросил:
— Кто там ходит?
— Это я, Митрофан Вакулович, — просочился в замочную скважину смиренный голос Кузьмы Василенка.
Созоненко загремел железом, отпер калитку, и во двор бочком, боясь задеть хозяина, осторожно протиснулся вековечный должник Василенко. Широкие полотняные штаны его потемнели от сырости, точно он побывал в канаве.
— Добрый вечер, Митрофан Вакулович. — Кузьма снял шапку, поклонился и вздохнул.
— Пойдем в хату. — Созоненко украдкой высунул на улицу голову, повертел шеей.
— Никого нет, я за собой… хе-хе… свидетелей не вел, — угодливо засмеялся Василенко. — Я огородами петлял, чтоб никто не увидел. Весь в росе.
— Я свидетелей не боюсь! Плевать мне на них! Я гляжу, месяц взошел или нет. — Созоненко разозлился, что даже такому ничтожеству, как Василенко, заметна его осторожность.
— Взошел, взошел. Тут вам, из-за этого забора, и месяца не видать. Крепость! — хвалит Кузьма кулацкую усадьбу, все еще не надевая шапки.
В комнате Созоненко садится за стол, а Кузьма робко топчется босыми ногами на свежевымытом полу. Его влажные, печально-угодливые глаза скорее подошли бы богомольцу, чем этому пьянице и мелкому воришке. Правда, за чаркой и Кузьма становится человеком, бросая на хмельные столы и острое слово и насмешку, которую трезвый хранит за семью печатями.
— Кончилось собрание? — Митрофан ощупывает Кузьму глазами. Взгляд у лавочника оценивающий, он сразу определяет, чего стоит человек и с нутра и снаружи.
— Должно быть, кончилось. Я до конца не досидел, чтобы вас без опаски проведать.
— Дожился, можно сказать! Ну, и что на том собрании было?
— Беспредельно плохо, — невесть зачем ввертывает Кузьма ученое слово. Потом снова вздыхает и смотрит на Митрофана по-собачьи преданными глазами.
— И смерть Пидипригоры не помогла? — Все тело Созоненка наливается жаром.
— Не помогла, нисколько не помогла. — Кузьма тронул себя за голову, посреди которой до самой макушки пролегла, словно покрытая пушком одуванчика, ранняя лысина.
— Еще поможет, — хмуро пообещал лавочник. — Мою землю забирают Олександр Пидипригора и Карпец?