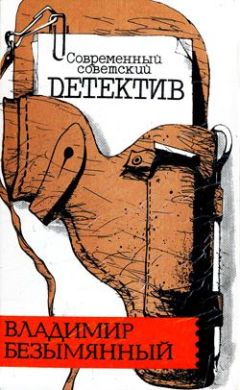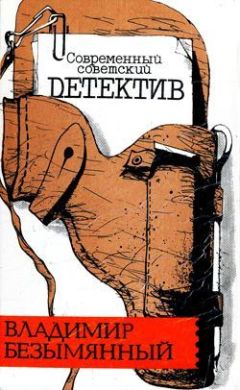Анатолий Ананьев - Версты любви
«Пусть покоится ее душа, царствия ей», — сказала она, перекрестясь и принимаясь за еду.
Она поглядывала то на крест, то на травку, как будто вползавшую на могильный холмик, то на меня, и какие-то свои, наверное, известные и понятные ей одной думы ворошились в старческом сознании. Время от времени она повторяла почти одну и ту же фразу: «Мучалась она, ой, как мучалась», — и фраза эта для самой Марии Семеновны была, конечно, всеобъемлющей, вбиравшей весь ход охватывавших ее воспоминаний. У меня же были свои грустные думы. Я принес Ксене цветы. Они лежали неразвернутым букетом у самого основания креста, я смотрел на них, и мне вспоминалось, как тогда вечером я пришел к ней в палату и положил на грудь несколько ранних весенних красных гвоздик. «Ну вот, — думал я, — при жизни не приносили, зато теперь я буду носить их тебе». Но все это, разумеется, были только добрые намерения, ибо как же я мог носить их, живя в Чите? Разве только снова приезжая сюда в Калинковичи? А для чего мне было теперь приезжать? К кому? И наверное, я бы действительно никогда больше не приехал, если бы не Мария Семеновна да отчасти и Василий Александрович, которого, как ни осуждай, а все же жалко.
Впервые тогда Мария Семеновна пошла провожать меня на вокзал.
«Ты уж не забывай нас, — просила она. — Может, и со всей семьею, будем рады. Дети-то есть?»
«Есть, сынишка растет».
«Ну вот, все вместе, да ты уж, христа ради, не забывай нас. Он-то сегодня так, а завтра кто знает, а что я с ним?»
«Вылечат, Мария Семеновна, не такие болезни лечат».
«Дай-то бог, да кто знает, всякое может быть. Дай-то бог...»
И что вы думаете, Мария Семеновна оказалась права: года Василий Александрович не продержался, снова запил, да еще как, и я теперь езжу не к Ксене и даже не потому, что жалко Василия Александровича — как-никак, а бывший комбат, воевали вместе! — а к Марии Семеновне. Вот уж на кого действительно не могу без боли смотреть. Почти слепая, живет на пенсию, а этот Василий Александрович не то чтобы в дом, а из дому что только возможно тянет. Квартиру дали однокомнатную, чего бы еще, а все пьет. Не буянит, не шумит, да в этом ли суть? При мне, как приеду, вроде держится, дает слово, клянется, а как уеду — все по-старому. Трудно даже представить, до чего дошло. Ведь Мария Семеновна не только прятать деньги, пенсию свою, но даже продукты вынуждена держать у соседки в холодильнике. Разве это жизнь? А с Василия Александровича, что ни втолковывай ему, как с гуся вода; вроде и соглашается, клянет себя, а на деле — как подгнивший столб, только и держится что на подпорке, а чуть отпустил, уже на земле; но ведь и подпорка — раз в году, кто же мне даст два отпуска? Пробовал, приезжая, еще укладывать в больницу, но толку что.
«Губишь себя», — говорю.
«А что? Для кого беречь? Ее-то нет».
Я уж и так пробовал:
«Но я-то вот не пью».
«Э-э, ты святой человек, — отвечает, хотя знал бы, как эта святость дается. — Ты, Женя, святой человек, давай за твое здоровье по последней, неси четок, и все, завяжу. Навек завяжу».
Недавно, четыре дня назад, такой же вот разговор был; я ведь опять уложил его в больницу; четка, конечно, не принес ему, а вчера вечером прихожу в палату, сидит нахмуренный, от больничного халата ли, от белой ли больничной обстановки или, может, от мрачных дум — лицо даже будто зеленое; не смотрит, отворачивается.
«Ну что, — говорю, — Василий Александрович, как дела?»
«Ладно, — отвечает, — сказал: все, не буду, поезжай спокойно».
Но это слова, не больше. Опять сорвется, чувствую, если не убежит из больницы, так запьет, и пойдет все по старому кругу, по колесу, ведь вот в чем вопрос, а как остановить, как разрубить круг, выпрямить линию, ума не приложу. Здесь они — Мария Семеновна, Василий Александрович, а там, в Чите, — Зинаида Григорьевна, Саша, семь, восьмой, да еще ж и Петр Кириллович, им ведь тоже мои поездки не в радость же; правда, от Зинаиды Григорьевны я ни разу не слышал упрека, молчит, только иногда глаза заволакиваются, а что за этими сдерживаемыми слезами? Стоит на перроне, не шелохнется, держит за руку сына и смотрит, как я, высунувшись из тамбура, из-за плеча проводника помахиваю ладонью; и Саша в нее, тоже молчит, ручки вниз, как по швам, одни глазенки — вот они, как живые, передо мною, и я знаю, что за этим взглядом, знаю, о чем думают и Зина и он, что чувствуют, весь их мир — во мне, и разве не болит у меня сердце за них? Невольно, не хочу, а думаю иногда, что, может быть, и я добр за счет чужой доброты, за счет доброты Зинаиды Григорьевны, сына, Петра Кирилловича? Зина-то не скажет, уверен, а Петр Кириллович смотрел, видно, смотрел, как она мучается, терпел-терпел да и не вытерпел — перед самым моим отъездом в этот раз (наедине, конечно, выбрал момент) говорит: «Ты что делаешь? Седой весь, семья, не видишь, что ли, как возле тебя человек сохнет!» Это он про Зину. Я не ответил. А что я мог ответить? Мир-то весь во мне: и этот, что в Калинковичах, и тот, что в Чите; во мне он единый, целостный, а в жизни — разорван. Как его соединить? Как тут будешь спокойным? Оттого и езжу, как это я вначале вам говорил, отдыхать сюда, и гостиница эта — почти родной дом; и на следующее лето, наверняка знаю, уверен, опять буду здесь, мир целостен, хотя я и мечусь туда и сюда, как будто и разрываюсь, а в душе разорвать не могу, как он сложился для меня, так и есть, как у каждого, думаю, свой и тоже, наверное, для самого себя всегда целостный.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Закончив рассказывать, Евгений Иванович почти тут же поднялся с кресла, но, прежде чем лечь в постель, хотя час уже был поздний, за полночь, еще некоторое время, заложив руки за спину и опустив голову, прохаживался по комнате — от окна к двери и обратно; я смотрел на его высокую, худощавую и чуть сутулую фигуру (нет, он не был сутул; впечатление такое создавалось, очевидно, от заложенных за спину рук), и, может быть, из-за этой самой видимой сутулости, может быть, оттого, что настольная лампа была уже выключена и свет, падавший только от люстры, накладывал резкие и старившие его лицо тени у глаз и губ, особенно когда он выходил к центру и оказывался почти под самой люстрой, а может, лишь от рассказа — какую прожил жизнь — он казался мне постаревшим, как будто действительно можно было постареть за эти часы, что мы просидели в креслах, да и сам я тоже представлялся себе другим, как если бы вместе с Евгением Ивановичем каждый год приезжал в Калинковичи. Я еще не мог понять, хорошо ли было то, как поступал Евгений Иванович, в этом ли, в доброте ли, какую он проповедовал и какую, было ясно, носил в себе, заключались цель и смысл бытия, или это лишь часть, одна линия, личная, тогда как на самом деле в жизни доброта измеряется не только жалостью к ближнему. Потому и взволновала меня его история, и потому, вероятно, я не мог долго заснуть, когда уже, пожелав друг другу спокойной ночи, мы лежали, укрытые холодными, тонкими одеялами. Я лежал спокойно, не ворочался, чтобы, как внушал себе, не мешать сразу же притихшему и заснувшему Евгению Ивановичу, хотя на самом деле мне просто не хотелось выдавать себя, что я не сплю: очевидно, и с моим соседом происходило то же, и он также лишь не хотел выказывать, что не спит. Но, может быть, я ошибаюсь, и он заснул сейчас же, едва только прикоснулся головой к подушке, потому что — ведь так же, как для незнакомого мне Василия Александровича его рассказ, а для Марии Семеновны ее, так и для Евгения Ивановича все то, о чем он говорил, было повседневною, привычною и, как воздух окружает нас, окружавшей его жизнью, и он, пересказав все, лишь облегчил, проветрил, как проветривают комнату, открывая форточку, душу, и был теперь удовлетворен и спокоен; передо мною же — смыкал ли глаза, лежал ли в темноте с открытыми — одна за одною, как сменяющиеся на экране кадры, то живые, движущиеся, то неподвижные, как бы застывшие на каком-то мгновении, возникали события своих минувших лет, но виделись они теперь по-иному, чем прежде (как и все люди, я ведь тоже часто любил и люблю предаваться воспоминаниям и в начале, кажется, уже говорил об этом), до встречи с Евгением Ивановичем. Я думал о нем, о Ксене, Рае, Зинаиде Григорьевне, которая, впрочем, более всего представлялась мне интересной и в чем-то даже таинственной, хотя именно о ней как раз скупее всего рассказывал Евгений Иванович; я воображал и Москитовку, и Читу, и Калинковичи, какими они могли быть тогда, в те времена, когда еще Ксеня была жива и Евгений Иванович, такой же, наверное, как и теперь, худощавый, не седой еще, с рюкзаком за спиною, шагал через весь город, разбрызгивая сапогами снежную кашицу, спеша к заветной избе, что у въезда по Мозырьскому шоссе, и еще разные врезавшиеся в память сцены: то в больничной палате у Ксени, то на похоронах Раи, то как будто я сам вот стою на дощатом перроне далекого таежного полустанка и ожидаю пассажирский поезд, но на все это накладывалась моя собственная, светившаяся другими красками и оттенками и, пожалуй (во всяком случае, тогда мне думалось так), не менее драматичная и сложная жизнь. Разумеется, я не хотел и не собирался спорить с Евгением Ивановичем, но вместе с тем все, что приходило теперь в голову, рождалось как бы наперекор тому, как жил и к чему стремился он. «Его бы заботы да мне, да каждому, — мысленно рассуждал я. — Ну и что, что любовь? Любовь к женщине это, в конце концов, частное дело, личное, трагедия одного человека, одной семьи, тогда как есть еще интересы общества, народа, страны. Он осуждает Василия Александровича, — продолжал все так же мысленно я, — но за что? Значит, есть еще совесть у человека, раз пьет, значит, не все потеряно. Не эти люди страшны, нет, а другие, те, что совершают разные гнусные дела и не пьют, не терзаются по ночам, а спокойно спят и процветают, уверенные в своей непогрешимости, и вот их-то уж наверняка ни в какую больницу не уложишь. Так что — той ли мерою меряются добрые дела? Услугой ли ближнему? Или есть еще иная, когда — для людей, для всех! Эта доброта — в ненависти, в борьбе, в беспощадности к злу, и она, только она может и должна быть мерой всему», — уже в запальчивости продолжал я. Мне действительно тогда казалось, что жизнь Евгения Ивановича только и состояла в том, что он мучился от неразделенной любви к Ксене, и ездил то в Читу, то в Калинковичи, но, забегая вперед, скажу, что я далеко не во всем был прав, осуждая его, потому что знал, в сущности, только одну сторону его жизни, тогда как вторая, о чем он умолчал и что открылась мне позднее, после того, как я побывал в Гольцах, многое изменила в суждениях о нем. Но в эту ночь, повторяю, я был под впечатлением только что прослушанного рассказа и не то, чтобы совсем осуждал жизнь Евгения Ивановича, но не такими уж трагическими представлялись мне его страдания. «Да хлебнул ли он настоящей жизни?» — спрашивал я себя и, отвечая: «Нет!» — был вполне уверен, что прав. Да и кто не считает, пусть мысленно, про себя, скрытно, наслаждаясь лишь думами по ночам, что его жизнь более достойна примера, чем чья-либо другая? Все мы в той или иной степени тщеславны, хотя и не замечаем, не признаемся себе в этом. Может быть, и мною руководило то же незамечаемое тщеславие, однако не в этом, по-моему, суть; своей историей Евгений Иванович как бы пробудил во мне то, что уже было, в сущности, предано забвению и зарастало травой, как зарастают старые могилы, он заставил оглянуться и увидеть себя, каким был и каким стал, и увидеть жизнь, как видел раньше и как теперь, и потому, споря с Евгением Ивановичем, в то же время я спорил и с собой, как бы снимая с себя мнимо мягкие, вызывавшие только благодушие наросты времени.