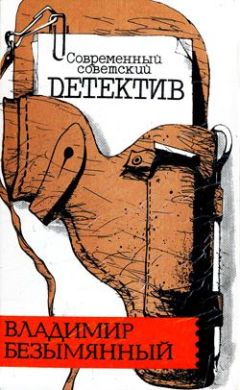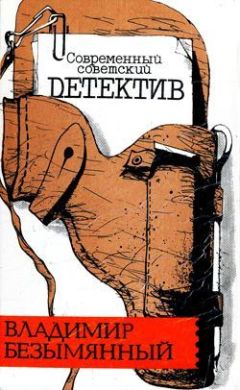Анатолий Ананьев - Версты любви
«А знаете ли вы, Дмитрий Степаныч, что-либо о водоразделе человеческих душ?»
«Нет», — неохотно ответил тот.
Я не вмешивался в их беседу, а только слушал; даже не смотрел на них, вернее, старался не смотреть, чтобы, как это бывает, не прервать, не нарушить течение их разговора.
«А он существует, этот водораздел».
«Выбор профессии? Вы это имеете в виду, когда молодые люди вступают в жизнь?»
«Нет. Выбор профессии — это мелочь, деталь всего-навсего, а то, о чем я сейчас, если хотите послушать, скажу, касается всех возрастов и всех профессий. Это — коренной вопрос жизни».
«Ну-ну, пожалуйста, просветите».
«Начну с примера, чтобы понятней, а если позволите, с жизни своего отца. Крестьянский сын, солдат первой мировой войны, солдат гражданской, красногвардеец, бьет Юденича под Питером и возвращается домой — почетный боец революции, израненный, с наградами, и тут вот тебе: водораздел! Идти бы ему по партийной линии или по государственной, голодать, холодать вместе со всеми, двигаться вперед, так нет, засверкали нэпманские монеты перед глазами, заискрилось легкодоступное золотишко, и подался в купцы. Нажился, потом все отняли, и хотя не посадили, а жизнь сломана, никто. Душа сломана, водка и могила — один прямой путь, вот и все».
«Ну и что же тут нового?»
«Погодите. Это я рассказал о явном, видимом водоразделе. А бывает еще невидимый, который существует повседневно, ежечасно и встает перед каждым человеком. В том ли, в другом варианте, хрустящей ли бумажкой, а манит этот золотистый блеск, и если уж начистоту — вот я сижу перед вами, а ведь я, в сущности, повторил судьбу своего отца. В тяжелые послевоенные годы нет чтобы работать, чинов добиваться, потому что мне как фронтовику все двери были открыты, так тоже на легкое потянуло, на толкучку, и нажил, конечно, пачками деньги считал, не на штуки, а пачками, а потом в один прекрасный час как помелом — р-раз, и не успел я опомниться, как уже за решеткой. Отсидел, вышел, а жизнь-то сломана. Водораздел позади. Езжу от отца Серафима, заготавливаю по деревням воск для церквушек, что еще побрякивают колоколами, будят старушонок, ну, живу, жаловаться особенно не могу, не хуже других, чего бога гневить, а удовлетворения нет. Нет! Как подумаю, кем бы мог быть да кто есть на самом деле — душу воротит. Жизнь сломлена, водораздел пройден, и вот он, локоть, да не укусишь».
«В отца, значит, кровь».
«Может, и кровь, но знай я раньше, разве бы совершил такую ошибку? Если бы отец сказал мне. а то ведь нет, сам додумался, оглянувшись. Додумался, да поздно».
«Стать человеком никогда не поздно».
«Высот достичь поздно. Высот! Для каждого они начинаются на водоразделе, и человек должен быть провидцем — куда примкнуть, за что браться. Бывают годы, когда все ясно, за что, как сейчас, а бывает, когда не знаешь, куда колесо повернется, в какую сторону, вот тут и выбрасывает тебя на самый что ни на есть страшный стрежень водораздела».
«Ничего страшного».
«Как?!»
«Все это можно объяснить просто: одни честно трудятся, другие ищут легкой жизни — вот и весь ваш водораздел».
«Нет уж, не-ет, извините, не так все просто».
«Для кого как».
«Не всегда, не во все времена бывает ясно, куда повернется колесо истории и за что нужно цепляться человеку — вот в чем вопрос».
Не ручаюсь, что пересказал дословно весь их разговор; может быть, что-то и упустил или передал не так, но, по-моему, не столь важны подробности этого разговора, как сама суть, о чем вели они речь — о человеческих душах, которые попадают на стрежень водораздела. Мне кажется, он действительно-таки есть, и не в тем плане, «за что цепляться, куда повернется колесо истории», — ведь тут у этого лысеющего со лба явно был свой, и довольно скользкий, если не сказать больше, подтекст, а в другом, в водоразделе между честной, трудовой жизнью и соблазном легкой наживы. Кто-то проходит водораздел незаметно, как будто его и вовсе не существует для него; передо мною, например, никогда не стоял такой вопрос; а Василий Александрович, очевидно, попал на этот самый, как говорил тот, с наметившейся со лба лысиной, страшный стрежень, но только не ухватился ни за то, ни за другое и остался промеж, а ведь к чему-то готовился в жизни? В военную академию мечтал, да что там, конечно, мог и с этого запить, от сознания своей никчемности, от жизненной пустоты, в которую, в сущности, если верить Марии Семеновне, сам бросил себя, но ведь как ни объясняй, а все равно жалко человека. Так уж сложились для него обстоятельства. Жалко. Да и тогда, когда я лежал на топчане в залитой синим лунным светом комнате и под впечатлением рассказа Марии Семеновны думал о судьбе Ксени и о жизни Василия Александровича, как ни поднималось во мне отвращение, а все же и тогда я уже испытывал в какой-то степени жалость к нему. «Живет, а для чего? Сам мучается и других возле себя», — рассуждал я, разумеется, еще более, чем Василия Александровича, жалея Ксеню. Я опять чувствовал сквозь все тревожные раздумья, что есть во всей этой истории какая-то и моя вина, но какая, понять не мог, как, впрочем, и теперь не могу, а она все же была; вина есть, раз мучаюсь совестью. Опоздал — все, видимо, заключается в этом, но, может быть, и не только в этом. Во всяком случае, утром я встал почти больной, расстроенный, злой, и с Василием Александровичем состоялся у меня, пожалуй, самый резкий за все наши встречи разговор.
«А-а, ты», — протянул он, выходя из-за перегородки и потягиваясь, когда я, уже одетый, сидел еще на топчане и раздумывал, что делать. День был воскресный, и Василий Александрович не собирался на работу. Мария Семеновна же готовила завтрак и стояла у печи (вы скажете: «Все у печи! У печи!» Но так оно и есть, только у печи я и видел ее каждый раз и никак иначе не могу представить себе!); она лишь повернулась и своими старческими подслеповатыми глазами смотрела на нас.
«Как видишь», — ответил я.
«Чего приехал? Ее-то нет».
«Но ты не сообщил».
«Чего сообщать, ты же и так все за сто верст насквозь видишь, или на сей раз подвело тебя твое провидение? Чего глаза таращишь, нет ее, нет Ксени, понял?»
«Ты еще пьян».
«А это не твое дело. Не ты поил, не перед тобой и ответ держать. Если с добром приехал, ставь четок, тогда и разговор будет».
«Раньше ты пил, потому что Ксеня мешала тебе жить. Добротою своею, как ты мне говорил, вселенской добротою, да еще за чужой, вернее, за твой...»
«Да, за мой, да, потому и пил».
«А теперь?»
«Теперь пью потому, что ее нет рядом, и тебе не понять этого. Хоть ты и провидец, а слеп, как телок, слеп, ясно? Ее нет, и такого человека больше не будет, а ты слеп, и не твое дело лезть ко мне в душу»
«Я не лезу».
«Лезешь!».
«Нет».
«Для чего ездишь сюда? Чтобы в Гольцы?..»
«Да, и в Гольцы».
«Нашел дурака, хе-хе. Знаю, давно лезешь, да ладно уж, по старой памяти не прогоню, не пугайся, ставь четок на опохмелье, и все. Ставь, ну чего тебе, жалко?»
Не сразу, не вдруг, но все же удалось мне тогда уговорить Василия Александровича лечь в больницу. Мария Семеновна была рада и благодарна. Потом мы ходили с ней на могилу Ксени, и там, у не совсем еще обросшего травою серого холмика, обнесенного низкой деревянной оградкой, при ярком свете полуденного солнца я впервые почувствовал, как она стара, суетлива и, в сущности, беспомощна и что — да ей ли ухаживать за Василием Александровичем, когда сама она, как дитя, нуждается и в уходе и в ласке. Прежде как будто она не была набожной, или я просто не знал за ней этого, но тут вдруг еще за несколько дней до того, как пойти на кладбище, начала готовиться: купила конфет, пряников, напекла пирожков с рисом и яйцами, а потом щедро раздавала все это сидевшим и стоявшим у кладбищенских ворот старикам и старушкам (бог весть откуда они берутся, но я давно приметил, что всегда они толкутся у кладбищенских ворот и готовы помолиться за упокой любой души, лишь бы — подношение!) и озабоченно, как будто молитвы этих сгорбленных годами людей действительно могли что-то значить, произносила: «За Ксеню». Возле могилы мы присели на траву, она развязала еще узелок с продуктами, что был приготовлен, очевидно, для нас, и предложила откушать за добрую память усопшей.
«Пусть покоится ее душа, царствия ей», — сказала она, перекрестясь и принимаясь за еду.
Она поглядывала то на крест, то на травку, как будто вползавшую на могильный холмик, то на меня, и какие-то свои, наверное, известные и понятные ей одной думы ворошились в старческом сознании. Время от времени она повторяла почти одну и ту же фразу: «Мучалась она, ой, как мучалась», — и фраза эта для самой Марии Семеновны была, конечно, всеобъемлющей, вбиравшей весь ход охватывавших ее воспоминаний. У меня же были свои грустные думы. Я принес Ксене цветы. Они лежали неразвернутым букетом у самого основания креста, я смотрел на них, и мне вспоминалось, как тогда вечером я пришел к ней в палату и положил на грудь несколько ранних весенних красных гвоздик. «Ну вот, — думал я, — при жизни не приносили, зато теперь я буду носить их тебе». Но все это, разумеется, были только добрые намерения, ибо как же я мог носить их, живя в Чите? Разве только снова приезжая сюда в Калинковичи? А для чего мне было теперь приезжать? К кому? И наверное, я бы действительно никогда больше не приехал, если бы не Мария Семеновна да отчасти и Василий Александрович, которого, как ни осуждай, а все же жалко.