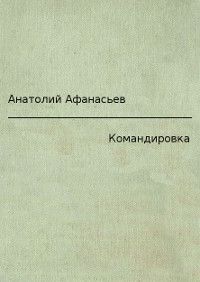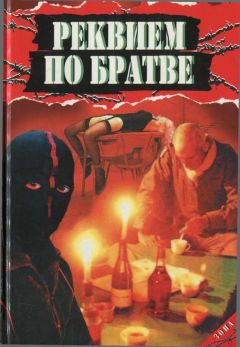Анатолий Афанасьев - Командировка
Она поворачивается и идет ко мне — вот она. Я чувствую ее, но больше не вижу. Я чувствую знакомую тяжесть, но не знаю — она ли это. А вдруг не она? Обман, обман. Да что же это, в конце концов. Проникла в грудь, растворилась — ни лица, ни слез. Где ты? Отзовись! Ах, у этого сна не может быть голоса. Пропали мы, Наталья, пропали мы. И ты и я. Упали и пропали. Летим, не дышим — помирать тяжко, сыро. Погоди чуток. Видишь, левая рука не гнется от сердечной боли. О-о, какой взрыв! Как все разорвалось, и дым, туман — ничего не видно. Останься, друг мой, покажись еще разок. Дай тяжесть твою. Дай приникнуть к тебе, не ускользай!..
Когда я очнулся, было ровно семь часов. Некоторое время я еще улавливал присутствие Натальи в комнате, вдыхал запах ее халатика, — так меломан тянется сердцем за последней нотой, которая глухо дребезжит где–то в люстрах.
«Что ж, — подумал я, — пора отчаливать, собираться потихоньку. Командировка, видимо, окончилась. На предприятие тебя больше не пустят, голубчик».
Собственно, мне и незачем было идти на предприятие. Надо забрать письмо у Прохорова — его таинственную депешу — да попрощаться с новыми знакомыми. Попрощаться можно по телефону. Что еще? Заказать билет, уложить чемодан, выспаться как следует. Вот и все.
Почему же так муторно на душе?
Приехал, наследил и уехал.
Директор не прав, когда сказал, что меня радует возможность напакостить. Меня такая возможность огорчает. Я не злодей и не герой.
В жизни каждый, чтобы не упасть, держится за свою палочку–выручалочку. Надо вам заметить, Федор Николаевич, что моя палочка–выручалочка — честный заработок. Я бы не задумываясь отказался от такой премии, как ваша. И это не потому, что я очень хороший и нравственный человек, а потому, что в противном случае — возьми я премию — у меня не останется никакой палочки, не за что будет держаться. Я упаду. Как это объяснить понятнее?.. Впрочем, пока никто мне премии не предлагает, хотя у меня есть некоторая нужда в деньгах. Я собираюсь купить себе новый магнитофон — стерео. Не для себя. Для Натальиной забавы. Но мне не предлагают премии, а вы, Федор Николаевич, хотите получить ее за узел, который некондиционен, мягко говоря. Вы хотите получить премию не один, разумеется, а вместе со всеми.
Более того, вам не столько нужна сама премия, сколько престиж. И ведь тоже не для себя лично, а для общей пользы… И нечего бы мне соваться в это дело, вы правы. Незачем превышать свои полномочия. Все верно. Мое дело — представить отчет, ваше дело — так или иначе договориться с Перегудовым. О, я знаю, Владлен Осипович ради общей пользы тоже от многого личного откажется. Это ваша палочка–выручалочка. Понятие, конечно, довольно абстрактное, но имеющее повсеместно силу доказательства. Во имя общей пользы вершатся великие дела и ее же именем прикрываются другой раз пакостные грешки и грехопадения.
И все это я прекрасно понимаю и совсем не в претензии и прочее и прочее. Но почему же все–таки в душе моей такая слякоть, точно разверзлись в ней хляби небесные? Не пора ли успокоиться к сорока–то годам?
Через десять минут я очутился на улице. Невмоготу было сидеть в номере и перекапывать давно перекопанное. Я не археолог, которому доставляет удовольствие сотни раз перекладывать с места на место черепки, дуть на них и протирать тряпочкой. У меня от этого занятия зубы ломит.
То ли дело — шагать по вечерней улице полукурортного города в рассуждении перекусить и хлопнуть где–нибудь кружечку пива… Шорох подошв по булыжнику мостовой — шр–шр–шр. Много людей, много. Гуляют. Группами, парочками, семьями. Туда–сюда, туда–сюда. Молодые люди с сосредоточенными лицами охотников, пожилые одиночки вроде меня — с доброжелательно–пристальным прищуром. Девушки–хохотушки, как стайки рыбок, ускользающие от желанных сетей. Представительные матроны, ведущие под руку своих не менее представительных, но каких–то субтильных мужей. Мешанина возрастов, походок, нарядов. Подошвы о мостовую — шр–шр! Жар дня иссыхает в прохладных аллеях, кружит головы предчувствие ночной истомы. Краски лежат густо, но все приглушенных тонов. Взгляд отдыхает на любом предмете. В воздухе настороженность, какая–то еле ощутимая пульсация. Чего–то ищет сердце, парит, на что–то рассчитывает. Вот сейчас это произойдет, вот сейчас. А что должно произойти — неведомо. Подошвы — шр–шр–шр!
Ага, сосисочная. Съел порцию, запил пивом. А ведь не собирался ужинать. В сосисочной душно, угарно. Мужики как водолазы. Чмокают, сосут воблу, утирают пиво с усов.
— Что, братец! — сказал мне сосед по столику. — Ничего, а?
— Ничего. Жить можно.
— То–то. Хорошо можно жить.
Я побоялся, что пристанет, побыстрее выскочил опять на улицу. Походил по кругу, как конь на проминке. Тоже пошуршал — шр–шр–шр. Встретил соседа по столику в сосисочной.
— А-а! А! — акнул он, точно гланды мне показал. — Давай, братец, вместе. А-а?! На двоих!
— Нет, нет, — замахал я. — Нет, нет, некогда!
Целеустремленный белопенный крепыш, похожий на бильярдный кий. Обознался он. Подумал, я в погоне. А я не в погоне, спасаюсь от одиночества. Нет горше заразы в чужом городе, чем вечернее одиночество. Оно настигает вдруг и не отпускает. Нарядные домики, такие прелестные днем, превращаются в монстров, скалят зубы окон и наваливаются со спины. Город давит чужого домами. Мое одиночество плелось за мной — шр–шр–шр! — меленькими шажками. Куда ни глянь — тут оно. В смеющихся девичьих взглядах, в случайно подслушанных фразах, в звуках музыки — во всем. Чем больше людей, тем тошнее. Но еще страшнее — вернуться в темный номер гостиницы, зажечь свет и лечь в постель. Там уж оно попрет из всех щелей, как ядовитый туман. Одиночество лучше всего переходить, перетоптать, довести себя до физического изнеможения. Оно не выдерживает долгого движения. Околевает.
Ничто так не унижает человека, как одиночество. Уж не знаю почему, но это так. Кто–то сказал, что одиноки мы не потому, что одиноки в самом деле, а потому, что чувствуем себя одинокими. На таком уровне красноречия многие составили себе имена. Думаю, когда они рассуждали об одиночестве, то были вполне благополучны… Унижение состоит в том, что мозг ищет лазейку, дабы выскочить из самого себя, отказаться от себя, избавиться от себя. Неслыханное предательство…
У кинотеатра «Стрела», в очереди в кассу я разглядел знакомого человека. Да, это Петя Шутов, мой друг. И с ним молодая женщина. Она держит его под руку и что–то оживленно щебечет, а он отвернулся от нее, румпель в небо, всем своим видом подчеркивает, что случайно оказался и в этой очереди, и с этой женщиной.
— Петя! — окликнул я, направляясь к нему. — Петя! Здорово!
— Здравствуй, — сказал Шутов, скользя мимо скучающим взором. Выгуливаешься?
— Выгуливаюсь, ага. А ты в кино? Здравствуйте, девушка.
— Супруга моя…
Супруга протянула сухонькую ладошку.
— Вы из Москвы? Петя рассказывал… Пойдемте с нами в кино. Хотите?
Бедная его жена — беленькое, ручное созданье — приглашает меня в кино, а сама досмерти боится, что и ее–то, того гляди, отдалит от себя его величество муж. Вот она какая. Чем же она хуже Светы и Муси? Чем не угодила мужику?
— Ну, ты стой, давай, — буркнул ей Петя, — а мы отойдем, покалякаем с товарищем.
Отошли к дереву, кора которого на уровне человеческой груди была истыкана черными точечками — следами гашения окурков. Дерево–пепельница. Больно ему стоять у кинотеатра, а ничего не поделаешь. Человек–царь природы.
Петя сказал с отчаянной покорностью судьбе:
— Во-о, в кино потащила. Видал? Думаешь, кино ей надо? На людях хочет со мной показаться.
— Ты ее пожалей, Петя. Она хорошая, сразу видно.
Взглянул исподлобья, полоснул черным шилом зрачков:
— А я плохой? Все хорошие. Жить только хреново.
Я поспешил перевести разговор, уж очень он сразу полыхнул. Не к добру это.
— Я завтра, наверное, уеду, Петя. Или в понедельник.
— Чего так быстро?
— Все. Сделал дело — гуляй смело.
— Ну да, — молвил Шутов, с трудом отстраняя тяжелые мысли о семейных неурядицах. — Ну конечно. Накоптил и в сторону. Конечно. Стену лбом не прошибешь.
— Странный ты человек, Шутов. То так, то этак. Не поймешь тебя.
— Я–то всегда так, а вы вот по–другому. И выходит, у вас правильно, а у меня дырка в талоне. Эх, Витек, я думал, хоть какую ты им клизму вставишь. Понадеялся я на тебя.
— На кого ты злишься, Шутов?
Он холодно ухмыльнулся:
— Ехай, Витек, ехай! Скатертью дорога.
— Тебе что — премию неохота получить?
— Мне охота еще разок тебе по рыльнику врезать. Да ты и так весь обметанный. Ехай домой, ехай.
— Трудный у тебя характер, Шутов. Как с тобой жена живет… Говоришь загадками, злишься. Ничего не объясняешь. Может, ты обыкновенный псих?
Супруга Петина не отрывала от нас умоляющего взгляда. Очередь ее приближалась. Петя небрежно протянул мне пятерню:
— Бывай здоров, Витек. Не кашляй.