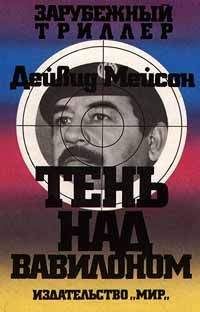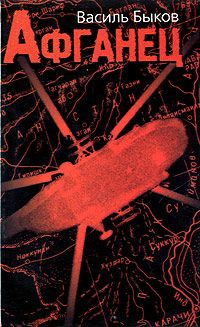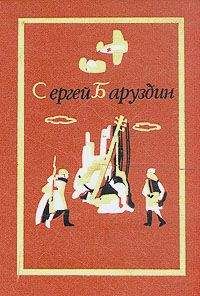Василь Земляк - Лебединая стая
На следующую ночь он снарядил крылатки — легкие санки с дугой — и поехал в Вавилон. Парфуся перекрестила его на дорогу, догадывалась, что поездка могла быть для него важная: либо он вернется Бубелой сильным, как до сих пор, либо сойдет на нет, и тогда от него можно ждать чего угодно. В отчаянии он может поджечь хутор и пойти по миру. Бубела из тех, кто ни перед чем не остановится.
Когда Бубела тайком пошел в гетманцы, а хутор оставил на нее, Парфена знала, как действовать. Она наняла вавилонского парня, и притом совсем недорого, по червонцу в месяц на ее харчах. Этим парнем был Данько Соколюк. Ему тогда чуть перевалило за двадцать, он еще не знал ни конокрадства, ни женщин; на первых порах стеснялся глянуть на хозяйку, ночевать ездил домой, но, когда началась жатва и они стали с ним на полосу — Данько косил, а она подбирала, — с парня как-то разом сошла вся добродетель, он не выходил с хутора по неделе и по две, а вскоре и совсем забросил свой дом, только мать приходила забирать у Парфены заработанные сыном деньги. Осталось разве что обвенчаться, но вернулся Бубела, и с документами чоновца, которые хранит по сей день. Он прогнал Данька, не заплатив ему за последний месяц. Парфуся ходила печальная, она еще долго любила этого парня, до тех самых пор, пока не прикачала его себе на качелях Мальва Кожушная. Парфуся никогда не видела Мальву, но слышала о ней от самого Бубелы, он говорил, что Мальва — чудо, для нее Данько Соколюк только игрушка, изо всех вавилонских мужиков один он, Киндрат Бубела, мог бы держать такую в покорности и чести, достанься она ему смолоду.
Бубела был когда-то красив и силен, но хутор высосал из него силу. Парфусе уже за сорок, а Бубела разменял седьмой десяток. Когда-то эта разница в годах была незаметна, а теперь приносила обоим много горечи и разочарований. Парфуся еще порывалась жить, а он уже жил только для хутора, держал жену все строже, даже перестал брать ее с собой в Глинск на ярмарку, где прежде вавилоняне могли видеть монашку. Чем меньше было свободы, тем настойчивее Парфена думала о ней. Но с годами хутор становился для нее тем же, чем он был для Бубелы, а свобода, не отгороженная от мира стройными тополями, утратила свой прежний смысл.
Почудилось Бонифацию или и впрямь кто-то всю ночь бродил вокруг хаты? Зося с вечера поставила тесто, а Бонифаций вставал рано, может, раньше всех в Вавилоне, ну и пошел в овин за соломой, чтобы вытопить печь. Зося прислушивалась, она всегда открывала мужу дверь, когда он возвращался с громадной вязанкой, но на этот раз так и не дождалась. Надела шлепанцы, выбежала во двор, который еще спал в белых сумерках, окликнула;
— Бонифаций!
Только ветер скрипнул приотворенными дверьми.
В овине было темно, и Зося распахнула их в тревожном предчувствии, отворила обе половины и увидела посреди овина Бонифация с околотом. На него, очевидно, напали, когда он уже взваливал вязанку на плечи, и задушили нашильником.
Панько Кочубей и весь Вавилон стояли на том, что в Кармелите заговорила совесть и он удавился сам. Никому не хотелось снова отправляться в Глинск на следствие. Но Зося, выбежав из овина, собственными глазами видела сани, петлявшие по верхнему Вавилону. Это бежали убийцы Бонифация… Потом кто-то сказал, что Фабиан уже давно снял с него мерку. Это могло пойти и от Бубелы — он один знал о зарубке для Бонифация в лачуге гробовщика. А еще вспомнилось кое-кому, как тогда, в Глинске, Кармелит поднял руку на Бубелу. «А это не прощается!» — шептались на похоронах. Закопали Бонифация на пустыре, где хоронят самоубийц. На этом настояли вавилонские богатеи. Бушевала страшная метель, дороги замело, нельзя было добраться ни в Глинск, ни оттуда, чтобы заступиться за мертвого. А в Вавилоне заступников не нашлось. Кажется, никто, кроме Зоей, и не всплакнул по усопшему, потому что хоть он и был честный человек, а добра никому не сделал ни на маковое зернышко. Его скупость превышала все известное до сих пор, он даже дома, для себя самого все отмеривал и взвешивал на безмене. Копеечки не пропил ни один, ни в компании, а чужое добро и чужие деньги привык считать, как и свои собственные. И если он вез осенью в Журбов свеклу, а кто-нибудь застревал или опрокидывался на дороге, Бонифаций объезжал потерпевшего, следя лишь за своим возом. Зато все, что другие теряли, подбирал и клал к себе на телегу. Зося потом прикидывала, что, если бы ему самому пришлось распрощаться со всем приобретенным и пойти в колхоз, то он бы скорее повесился. А помимо всего этого он был еще и жесток, Зося боялась уже одного его взгляда. Но — земля ему пухом — погиб он все равно безвинно и преждевременно, да еще и страшной смертью, а ведь втайне мечтал править Вавилоном, поверяя свои мечты лишь Савке да Зосе. Савка смеялся, ему-то что — правь! — а на Зосю эти притязания нагоняли страх.
Клима Синицу слушали на райкоме по заявлению Бонифация, теперь уже посмертному… Тот упрекал уполномоченного в мягкости, проявленной к жителям. По решению райкома в Вавилон прибыл сам заворг Рубан, о котором говорили, что он человек решительный, горячий, но справедливый. Рубан признал все действия Клима Синицы как уполномоченного райкома законными и оставил их в силе, только вот в отношении Петра Джуры Синица был, пожалуй, излишне суров, но Рубан и тут мог понять коммунара.
Вавилонские богатеи были в отчаянии, боялись, что смерть Бонифация падет на них, днем на людях не показывались, вечером засиживались то у Раденьких, то у Павлюков, то еще где-нибудь, рассылали своих людей по другим селам — в Прицкое, в Козов и в самый Глинск. Всюду одно и то же, только налоги еще больше, еще непосильнее, беда надвигается на хозяев со всех сторон.
Квартировал Рубан у матери Мальвы Кожушной. Сам небольшого роста, смуглый, в Глинске у него старушка мать и больше никого. Поэтому Вавилон сразу же принялся искать ему пару, стремясь заиметь в Глинске хоть одно влиятельное лицо. Однако Антоша (так здесь начали звать его с легкой руки старухи Кожушной) не за этим приехал в непокорный Вавилон. Властью уполномоченного он сместил Панька Кочубея, как кулацкого прихвостня, продавшегося за боровков, о чем писал Бонифаций, и до выборов принял обязанности председателя на себя.
В первый сочельник, когда весь и католический и православный Вавилон сидит дома и хлебает кутью, кто на сахаре, а кто на меду — а у нас еще и орехи клали в это божье яство, и пахло оно тогда несравненно, такой кутьи, верно, и сам Христос не пробовал, — прибежал Савка Чибис, весь в снегу, чем-то встревоженный, отказался сесть к столу, за которым собрались все Валахи, только несколько блинчиков выхватил со сковороды, постудил на красных от мороза руках, проглотил, почти не жуя, и сказал отцу:
— Председатель вернулся из Глинска, у него срочное дело, чтоб вы были тотчас в сельсовете! — Предупредил — никому об этом вызове ни гугу. Тайная вечеря. — Засмеялся и побежал от нас к Лукьяну Соколюку.
Отец одно время был в продотряде, имел неосторожность сказать об этом Рубану, тот пристыдил его, заявив, что ему никак не пристало прятаться в «мерзейших» середняках. Тогда отец написал заявление в соз, который должен был показать себя с наступлением весны, отдал Рубану заявление, а вместе с ним и свою середняцкую судьбу, вызвав нарекания соседей, а прежде всего Явтушка, который боялся соза пуще чумы.
— А, будь он неладен, уже и в сочельник дергает христианские души, — сказала мать, подавая отцу горшочек в белом узелке и половину грушевых ложек из припасенных для кутьи, совсем новеньких. — Пускай твои антихристы кутьи господней отведают, чтобы Вавилон хоть в этот вечер не проклинал вас.
Отец колебался, брать ли кутью, но взял и ее, и ложки рассовал по карманам, потом пошептался о чем-то с матерью в сенях и ушел.
Рубан уже был в сельсовете, чистил закопченное стекло от лампы и, кажется, нисколько не удивился горшочку с кутьей, поставленному отцом на стол.
Но когда отец стал выкладывать ложки, Рубан окончательно сообразил, что кутья взята не для маскировки — дескать, идет человек на ужин к родичам, — а на полном серьезе, чтобы здесь, в сельсовете, под портретами революционеров, сочельник справлять.
Отец взял горшочек обеими руками, поднес Рубану к самому носу.
— А ты понюхай. На меду, с орехами…
Рубан понюхал, чудесный аромат ударил ему в ноздри. Но он все же сказал:
— Ешь сам. Мы, коммунисты, на божественное не падки.
Отец завернул горшочек в платок и поставил в углу на пол, должно быть собираясь захватить потом обратно домой.
Пришел Петро Джура, весь пропахший своим трактором, полушубок в масле, руки тоже не отмытые, поздоровался, снял шапку, занял место на лавке, чтобы не стоять, когда соберутся все созовцы.
— Сегодня польский сочельник, — сказал Джура, глянув ненароком на горшочек в углу. — В Вавилоне пахнет кутьей, блинами и рыбой, а у меня уже третью ночь трактор не заводится. Как я сказал ему, что теперь он созовский, он сразу и на дыбы, — и Джура засмеялся.