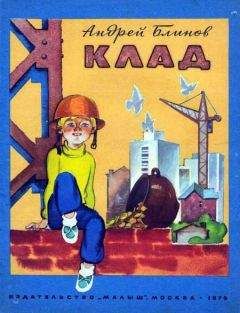Борис Блинов - Порт
Он защелкнул замки полупустого чемодана. Вот ведь, в общем-то, и все имущество. С каким-то странным чувством он подержал в руке легкий чемодан. Еще несколько книг на полке и фотография мэтров, которую он отлепил и вложил в «Новый мир».
Каюта стала не его, еще не прибранная, но уже готовая для нового жильца, который освободит ему свою каюту на «Зените», такую же или немножко меньше, в которой на стене останется свежий след снятой фотографии и поредевшая книжная полка. Разумный мир разумных вещей и неразумных чувств. И все-таки что-то в ней осталось, наверное, от этих, от неразумных чувств. Переборки с хорошей слышимостью, неудачная грелка, теплый воздух от которой поднимался вверх и не смешивался с воздухом из иллюминатора, скрипучая дверь, у которой сломан фиксатор, и даже труба, которая перекатывалась в шторм где-то за подволоком и не давала заснуть — все это было его, собственное и нужное, обжитое, и, покидая свою каюту, он оставлял здесь что-то от себя.
— Серый! Алик! — крикнул он громко.
Ребята с обеих переборок ему отозвались, заскрежетали ножки отодвигаемых кресел.
— Заходите на прощание, — позвал он.
Они влетели, оба длинные, поджарые, похожие друг на друга.
— Ты что, Иваныч?
— Ты зачем это надумал? Да такого и не бывает! — заголосили они. Их славные физиономии выглядели обиженными, расстроенными.
Пока Ярцев успокаивал их, отвечая на сбивчивые вопросы, вернулся мрачный Николай.
— Она что у вас, чокнутая, кастелянша? Обложила чуть не по матушке.
— Она у нас такая, она и по матушке может, — с гордостью произнес Серый.
— Велела, чтобы ты сам пришел. Без тебя не подписывает, — сказал Николай и пристально посмотрел на Олега.
«Вот ведь вредная баба», — подумал Ярцев и почувствовал, что краснеет.
— Придется идти, — сказал он, нехотя поднимаясь, и, взяв «бегунок», вышел.
Он только сейчас почувствовал, что захмелел. Голова налилась тупой, оглупляющей тяжестью. Неверность шагов, расслабленность движений делали тело чужим, неуправляемым, будто он в шторм попал. Пытаясь собраться, Ярцев шел не торопясь, крепко сжимая пластиковые поручни, но ступеньки под ногами слегка смещались, будто он продавливал их своей тяжестью.
И снова тамбур перед санблоком, и короткий коридор прачечной, и открытая дверь, из которой шел густой теплый воздух с запахом ароматного порошка «Барф» и шум работающих машин…
Ничего не изменилось. Ничего!
Глядя на палубу, он перешагнул комингс и увидел ее ноги в стоптанных тапочках. Ярцев протянул руку с зажатым листком. Влажное, теплое кольцо обхватило его запястье и сжало, потянуло вперед.
— Дурак, — еле слышно произнесла она. — Дай сюда!
Легкий треск разрываемой бумаги, белые лепестки плавно осели у ног.
— Ты никуда не поедешь. Слышишь ты, чурбан… Ты хоть можешь поднять на меня глаза? — услышал он ее громкий голос. Он посмотрел на нее. Такой красивой он никогда ее не видел. Мягкий свет истекал из ее глаз, завораживал, гипнотизировал Ярцева.
— Иди сюда, — сказала она и, закрыв дверь на ключ, потянулась к нему. — Неужели ты ничего не понял? — прошептала она…
Утро было ясным и спокойным. Роскошный голубой айсберг вырос справа по борту. Он поднимался террасами метров на сто, пирамидально сужаясь и образуя на вершине граненый пик со свежим сколом прозрачного льда.
Даже без бинокля было видно оживление на средней террасе. Пингвины, собравшись группами, переступали красными, словно от мороза, лапками и, казалось, о чем-то судачили, поглядывая на пароходы, которые готовились расстаться. Издали в своих фрачных парах они были похожи на дипломатов, прибывших проводить почетных гостей. С верхней террасы к ним прибывало пополнение: подойдя к краю, пингвины садились на свои оттопыренные хвостики и, балансируя крыльями, скатывались вниз.
— Вира якорь!
— За кормой чисто!
И совсем не парадный ответ:
— Якорь подняли, но он грязный.
— Оставьте его в воде, пусть помоется.
Бурно вспенилась вода, и пошел, пошел «Зенит», быстро набирая ход и отваливая в сторону.
Ярцев этого не видел. Он стоял в центральном посту незнакомого судна, привыкал к щиту, а когда раздались прощальные три гудка, пожелал про себя «Блюхеру» быстрого и удачного рейса; вспомнил про Полину, про Ковалева, про деда и еще подумал о том, как причудливо, непредсказуемо возникают чувства, которые сближают или разъединяют нас.
1979 г.
СУДОВАЯ РОЛЬ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Какой-то малыш отвалил от причала, гуднул на прощание и не спеша потопал в море. Наш транспорт ему не ответил. Это естественно, на каждый чих не наздравствуешься. Нам тоже не отвечали, когда я на СРТ ходил. Я помахал ему рукавичкой, подождал, когда он кормой развернется — не моя ли «Пикша»? Но тральщик скрылся за танкером, стоявшим на рейде, а когда снова выплыл, названия уже не разобрать было. Меня как к родному притягивало, и я наблюдал за ним, пока битый волной корпус не слился с рейдовыми судами и кранами. На смену ему большой иностранец вывернулся с синей маркой на трубе, а следом база двугорбая пошла.
Ходят, бродят по заливу железные коробки, мачтами утыканы, разной техникой нашпигованы. И чего шастают? Зачем это надо? Если видеть только то, что перед глазами, ни за что не догадаешься. Вон танкер железяку рогатую в море выкинул, но зачем-то привязался к ней цепью. Буксир иностранцу идти не дает, тянет его на веревке к берегу. Тот сопротивляется, нехотя так разворачивается, но подчиняется насилию. Рейдовый катер, как слаломист, мчится куда-то, огибая стоящие суда. А людей нигде не видно. На берегу, как раз против нашего борта, четыре марсианина застыли, вагоны с тепловозом под собой пропускают, и один из них клюв выпустил, подцепил с нашего борта какую-то чушку и поволок на причал.
— Эй, стой! Назад! — закричал я и засвистел крановщику.
Это, между прочим, не чушка, а мотор вентилятора, я его час назад снял. В перемотку мы сдаем не его, а погружной насос, который у первого трюма лежит.
Но крановщик в своей будке сидит, как мозг марсианский, только свое знает, на меня ноль внимания.
Здесь, на транспортном рефрижераторе, расстояния не как на СРТ, пока я до мостика докричался да штурману объяснил, мотор наш уже на берегу скрылся. Новая проблема! Я здесь всего неделю, но уже понял — рогали на палубе, матросы то есть, для того и существуют, чтобы проблемы создавать. Им все равно что стропить: мотор, насос или буфетчицу Ляльку, был бы гак.
Где я теперь его искать буду? Как на палубу майнать?
— А ты варежку не разевай, — подошел ко мне довольный Вася-ухман. — Мне сказали вывирать, я и подцепил. Ваши железки мне без разницы.
— У-у-у, Вася, — взвыл я, — отойди подальше, у меня свайка в руке!
— То наша свайка! — обрадовался Вася. — Я ее с утра шукаю. Давай сюды.
Я бросил свайку и побежал к своему шефу, старшему электромеханику. Он позвонил штурману и мне сказал:
— Все. Крановщик закончил работу. Прошляпил — теперь сам с ним разбирайся.
— Так же не бывает, — сказал я. — Он же меня пошлет.
— И правильно сделает, — ответил старший и полез в рундук.
Не, ребята, я так не договаривался. На СРТ давно бы уже шум подняли и этого марсианина придавили. А здесь никому дела нет, будто мотор не наш. Старший, как страус, засунул голову в рундук, что-то делает, не слышит, не видит, только зад сухой, обтянутый джинсами, торчит. Врезать бы по нему.
Старший повернул ко мне красное от натуги лицо, словно мысль мою прочитал, и распрямился.
— На вот, иди, — и протягивает мне маленькую. — Только пробку найди, разольешь.
Я понюхал — спирт.
— А-а-а, — догадался я.
— Ага, — кивнул он. — Сам не сможешь, пусть Охрименко договорится. Он умеет. Чтобы никто не увидел.
— Смогу, — успокоил я его и посмотрел в иллюминатор.
Высоко же сидит, зараза. Как он туда забирается?
Я побежал, пока он вниз не спустился, и мужика обрадовал. Похоже, он на то и рассчитывал, ханыга. Избаловались, черти, на берегу. Моряка доят, как корову. Не то чтобы жалко — обидно, что на равных не воспринимают, будто мы каким-то шаровым делом заняты, от которого карманы сами собой пухнут. Да для меня по тому же причалу пройти, прокопченному, и то в удовольствие. Я уж не говорю про грибы-ягоды и прочие пикники-рыбалки — этот праздник на берегу редко кому из нас доступен, хоть и мечтаешь о нем целый рейс. Мечтать не вредно. Бывало, чего только в рейсе не планируешь, чем себя не тешишь и все дела кажутся такими нужными — просто не жить без них. Береговая неделя на вес золота. А к концу стоянки оглянешься — просвистела мимо будто уток стайка. Что-то делаешь, с кем-то общаешься, куда-то ходишь — да все не то. Не успеешь воздуха глотнуть берегового, а день-то, оказывается, уже последний. Мой он остался, единственный, родной, не растраченный еще. Так на него рассчитываешь, так нагружаешь из последних возможностей, словно в нем вся жизнь спрессована за четыре прошлых месяца, да и за четыре, что впереди.